

Антонова работала на посту директора Пушкинского музея с 1961 по 2013 год, позже занимала пост президента учреждения. Она известна как специалист по итальянской живописи эпохи Возрождения. Антонова — кавалер ордена Почетного легиона, участница Великой Отечественной войны. В 1979 году она получила звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.
В марте Антонову с 98-летием поздравил президент России Владимир Путин, отметивший, что искусствовед «посвятила свою жизнь высокой, благородной миссии — сбережению нашего бесценного культурного, духовного достояния», об этом сообщало РИА Новости. Антонова рассказывала журналистам, что свой день рождения встречает в изоляции из-за пандемии коронавируса: «Говорят, что лучше не рисковать, не собираться, соблюдать меры безопасности. В Пушкинском музее мы сейчас все на так называемой удаленке».
За свою жизнь Антонова дважды удостоилась Государственной премии России — в 1995 и 2018 годах. Последнюю премию ей присвоили за то, что ее имя «вошло в историю мирового искусства как последовательного сторонника и вдохновителя диалога культур, как просветителя с энциклопедическими знаниями и безупречным художественным вкусом».
Ирина Антонова проработала в Пушкинском музее более 75 лет, придя в него в должности научной сотрудницы после окончания Московского государственного университета в 1945-м. За годы ее руководства Пушкинским музеем в учреждении прошли десятки масштабных выставок. Одной из важнейших — проведенная в 1981-м выставка «Москва — Париж. 1900-1930», ставшая прорывом в условиях идеологических запретов.
При Антоновой ГМИИ имени Пушкина получил статус одного из важнейших в России культурных центров, а также приобрел высокую репутацию в мире. В 1973-м в музее впервые представили выставку «Сокровища гробницы Тутанхамона», в 1987-м — работы Марка Шагала к 100-летию со дня рождения художника. В ГМИИ имени Пушкина также демонстрировались шедевры Клода Моне и Энди Уорхола, выставлялись «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, «Святой Себастьян» Антонелло да Мессины, «Венера Урбинская» Тициана.
Помимо этого, при Антоновой учреждение обзавелось Музейным городком — искусствовед сама выступила инициатором его создания и возглавила рабочую группу по подготовке концепции.//https://lenta.ru/news/2020/12/01/antonova/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
*************************************************

Ирина Антонова о современном искусстве
Если вы прилежный читатель нашего журнала, то не могли не заметить в декабрьском номере за прошлый год («Партнёр», №12 / 2017) начатую нашими авторами М.Баст и В.Моносовой дискуссию о современном искусстве «От Черного квадрата к черной дыре». Сегодня мы предлагаем вам взгляд на искусство человека, авторитетнее которого в этом вопросе трудно было бы найти, человека, действительно уникального, – Президента Музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве Ирины Александровны Антоновой. И, пользуясь случаем, поздравляем эту легендарную женщину с замечательной датой – ее 96-летием.
Я думаю, в первые десятилетия XX века закончился огромный исторический период в искусстве, включающий в себя и тот, что начинался Ренессансом. Мы свидетели действительно большого кризиса художественной системы. И этот кризис может длиться не одно столетие, сопровождаясь реминисценциями. На разных этапах это было: от античности к Средним векам, от Средних веков к Возрождению. И вот сейчас, захватив почти весь двадцатый век, этот кризис, вероятно, продлится и в течение XXI века.

Меня часто спрашивают, что такое «Черный квадрат» Малевича. Я отвечаю: это декларация – «Ребята, всё кончилось». Малевич правильно тогда сказал, суммируя глобальную деформацию и слом, отраженные прежде в кубизме. Но ведь трудно с этим смириться. Поэтому и началось: дадаизм, сюрреализм, «давайте вещи мира столкнем в абсурдном сочетании» – и поскакало нечто на кузнечиковых ножках. И дальше, и дальше… уже концептуализм, и проплыла акула в формалине. Но это всё не то, это упражнения вокруг пустоты: чего бы такого сделать, чтобы все удивились и не обсмеяли бы.
Больше того, начиная с XVIII века, начался глобальный процесс, который я называю «Гибель богов» – недаром есть такая опера у Рихарда Вагнера. Потому что этот фактор – мифологический – перестал быть главным содержанием и оказывать влияние на пластические искусства. Можно писать «Явление Христа народу» и в тридцатом столетии, но это время, время известного нам великого искусства, кончилось. Мы видим, как разрушается принцип эстетики, духа и принцип идеала, то есть искусства как высокого примера, к которому надо стремиться, сознавая всё свое человеческое несовершенство.
Возьмите Достоевского. Его Сонечка в совершенно ужасающих обстоятельствах сохраняет ангельскую высоту духа. Но в новом времени, а значит, и в искусстве Дух становится никому не нужен. Поскольку искусство, хотите вы этого или нет, это всегда диалог с миром.
А в мире и сейчас, и в обозримом грядущем осталась только реальность как стена, как груда кирпичей, которую нам и показывают, говоря: вот это искусство. Или показывают заспиртованную акулу, но она вызывает только отвращение, она не может вызвать другое чувство, она не несет ничего возвышенного, то есть идеала. Как выстраивать мир при отсутствии идеала? Я не пророк, но мне ясно: то, что сейчас показывают на наших биеннале, это уйдет. Потому что консервированные акулы и овцы – это не художественная форма. Это жест, высказывание, но не искусство.
Пока есть – и он будет длиться долго – век репродукций, век непрямого контакта с художественным произведением. Мы даже музыку слушаем в наушниках, а это не то же самое, что слышать ее живьем. Но репродукция ущербна, она не воспроизводит даже размера, что уж говорить о многом другом. Давид и его уменьшенный слепок – это не то же самое, но чувство «не то же самое», оно потеряно. Люди, посмотрев телевизионную передачу о какой-либо выставке, говорят: «Зачем нам туда идти, мы же всё видели». И это очень прискорбно. Потому что любая передача через передачу абсолютно не учит видеть. Она в лучшем случае позволяет запечатлеть сюжет и тему.
Постепенно люди отвыкнут от прямого общения с памятниками. К сожалению, несмотря на туризм и возможность что-то посмотреть, новые поколения всё больше будут пользоваться только копиями, не понимая, что есть огромная разница между копией и подлинным произведением. Она зависит от всего: от размеров, материала, манеры письма, от цвета, который не передается адекватно, по крайней мере, сегодня. Мазок, лессировка, даже потемнение, которое со временем уже входит в образ, мрамор это или бронза, и прочее, прочее – эти ощущения окончательно утеряны в эпоху репродукций.
Я не мистик, но есть определенное излучение той силы, которую отдает художник, работая над картиной иногда много лет. Это насыщение передается только при прямом контакте. То же с музыкой. Слушать музыку в концертных залах и ее воспроизведение даже на самом новейшем носителе – это несравнимо по воздействию. Я уже не говорю о той части общества, которая читает дайджесты и выжимку из «Войны и мира» на сто страниц.
Вот с этим укорочением, уплощением и обеззвучиванием человечество будет жить, боюсь, долго. Необходимо будет снова воспитать в человеке понимание, что ему необходим сам подлинник как живой источник, чтобы сохранять полноценный тонус эмоциональной жизни.
Власть технологий приведет к тому, что всё будет исчерпываться получением информации, но будет ли уметь человек грядущего читать глубину, понимать суть, особенно там, где она не явна? Или он не увидит ничего, например, в суриковской «Боярыне Морозовой», кроме фабулы: на санях увозят женщину, поднимающую свой знак веры, а кругом народ. Но почему сани идут из правого угла в левый верхний? Между тем это не просто так, Суриков долго над этим работал и почему-то сделал так, а не по-другому. Будут люди задумываться над тем, почему тот или иной портрет профильный, а не фасовый? Или почему, например, фон просто черный?
Чтобы содержание искусства было доступно людям будущего, надо смотреть на великие картины, надо читать великие произведения – они бездонны. Великая книга, будучи перечитанной, на каждом новом этапе жизни открывает вам свои новые стороны. Я пока знаю тех, кто перечитывает великие книги. Их еще много. Но всё больше будет людей, кто никогда не станет перечитывать ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Гёте, ни Томаса Манна. Понимание поэзии тоже уходит. Думаю, в будущем только редчайшие люди будут наслаждаться строками «На холмах Грузии лежит ночная мгла…».
Я не могу предвидеть изменения во всей полноте, как не могла предвидеть интернет. Но знаю, что необходимость в искусстве, вот в этом эстетически идеальном типе деятельности человеческой, снова наберет силу – но мы пока не знаем, в какой форме. И знаете, из чего я делаю такой вывод? Из того, что люди – вы, я, много еще людей – они продолжают рисовать пейзажи, писать стихи, пускай неумелые и незначительные, но эта потребность есть.
Маленький ребенок всегда начинает рисовать маму – сначала вот этот кружочек и палочки, потом, когда сможет, он напишет «мама», а потом нарисует рядом домик, потому что он в нем живет. Потом он сам сочинит песенку, потычет пальчиком в клавиши и сыграет мелодию. Первобытный человек лепил Венеру с мощными формами, как Землю, которая рождает. Потом она превратилась в Венеру Милосскую, в Олимпию и Маху. И пока у нас будут две руки, две ноги, пока мы будем прямоходящими и мыслящими, потребность в искусстве будет. Это идет от человеческой природы с начала времен, и всё будет так, если ее, конечно, не искорежат совсем.
А пока не появились зеленые листочки, пока не видно новых Рублева, Леонардо, Караваджо, Гойи, Мане, Пикассо, огорчаться не надо – человечество создало столько великого, что и нам с вами хватит вполне, и вообще всем.
Так получилось, что моя специальность подразумевает историческое видение. И в истории уже бывали такие моменты, когда всё подходило, казалось бы, к финальной точке, но потом вдруг появлялись новые люди и что-то происходило. На это и следует надеяться. Потому что сейчас уж слишком явственна индифферентность по отношению к искусству. Культуре не помогают. Не помогают даже умереть. Просто совсем игнорируют. Но многие при этом делают очень умный вид и непрерывно кричат: духовность, духовность. Но нельзя же свести духовность только к религиозному мироощущению. Как нельзя не понимать, что плохое образование, несмотря на интернет, только добавляет хрупкости цивилизации в целом…
Фрагмент лекции И.А. Антоновой на открытии
Московской биеннале современного искусства
Читайте также:
- От черного квадрата к черной дыре. Не могу не поделиться. Журнал «Партнёр», № 12 / 2017. Автор В. Моносова
- Учиться понимать современное изобразительное искусство. Журнал «Партнёр», № 12 / 2017. Автор М. Баст
- Музей современного искусства приглашает… Выставка картин из музея Соломона Гуггенхайма (Нью-Йорк). Журнал «Партнёр», № 9 / 2006. Автор И. Гуткина
- ASPEI: литература и искусство между Западом и Востоком. Журнал «Партнёр», № 5 / 2013. Автор Н.Ухова
«главная задача человека — не угробить себя.
я человек, воспитанный на идеях революции. Я не только не отрицаю их, они сущность моей натуры.
сейчас любой дурак может привезти на выставку все, что захочет, хоть кучку дерьма (такое, кстати, уже бывало), и положить перед картиной великого мастера — вот, мол, какой он смелый. Но мы предпочитаем убрать за ним. Потому что это не есть современное искусство.
кончилось создание прекрасного — разве вы не замечаете? Возникло антиискусство. Я констатирую это без отрицательных знаков: искусство трансформировалось во что-то другое. И скоро этому продукту придумают название.
ко мне часто подходят простые люди и просят объяснить им «Черный квадрат». «Неужели вы сами не понимаете? — спрашиваю я. — Это полное отрицание. Малевич говорит нам: ребята, пошли домой, все закончилось». — «Но ведь что-то там брезжит?» Я отвечаю: «Ничего не брезжит! Это черный квадрат, полное ничто. Малевич показал нам, где точка».
помню времена, когда каждое мое утро начиналось звонком с вопросом «Ну как там баланс?». Эти слова были понятны только мне, они не касались бухгалтерии. Звонили узнать о правильном балансе между формалистами и реалистами.
я постоянно рассказываю, как меня однажды приперла к стенке Екатерина Фурцева (в 1960−74 гг. министр культуры СССР. — Esquire): «Что у вас происходит?» Я подумала, в музее начался пожар, пока я сидела на общем собрании. Я спрашиваю: «Что случилось?» — «У вас открыли выставку Тышлера! Он не член Союза художников!» Мимо проходил Борис Иогансон (в 1958−62 гг. президент Академии художеств СССР. — Esquire), он сказал: «Катя, Тышлер — хороший художник». Она ответила: «Да? А мне говорили обратное…»
вопрос, где делать выставку «Москва — Париж», обсуждался в центре Помпиду. Фраза тогдашнего директора Третьяковки стала почти крылатой: «Через мой труп». Примерно так же отреагировала Академия художеств. Но я сказала следующее: «Знаете, коллеги, у нас такая подпорченная репутация из-за международных выставок, что эту я бы взяла на себя». Все облегченно вздохнули. С моей стороны это уже был поступок.
знаете, с чем я ухожу на тот свет и что меня огорчает? Ужасное несовершенство человека. Он способен на всё: закрыть своим телом амбразуру, совершить невероятное открытие, забраться куда угодно. А добра в нем мало.
люди не нуждаются в подлинниках, их удовлетворяют репродукции. «А зачем мне Лувр? Я все это видел в интернете». Это удручает.
самое поразительное в искусстве — возможность по‑новому взглянуть на вещи, которые, казалось бы, хорошо знаешь. Великие произведения вечны, вы всегда будете открывать их заново. Этот феномен Андре Мальро называл «непредвиденным бытием».
наше восприятие искусства зависит не от уровня нашей подготовки, а от того, что мы чувствуем в данный момент. Я хожу на музыкальные концерты, и случается иногда, сижу и думаю: «Что же я, как заслонка печная, ничего не чувствую? Вроде бы и музыка любимая…» А бывает состояние, когда мы все впитываем полностью.
наверное, мне надо было становиться врачом. Человеком, который что-то делает и сразу видит результат. Я люблю мыть посуду. Потому что сразу видишь, что вот она, чистая, стоит и мне доставляет удовольствие.
когда я пришла работать в музей, сказала себе: «Долго я здесь не задержусь». Я любила искусство, но в 1945 году музей был пустой: картин на стенах не было, стояли ящики, еще не распечатанные. Только холод и весьма пожилой персонал — многим тогда было лет по пятьдесят. Я подумала: «Неужели они будут моими подружками? Какой кошмар!»
я глубоко уважаю специалистов, которые занимаются «фрагментом античного гвоздя», как я это называю. Они очень много знают, чтобы понять, что вот это — античный гвоздь, а вот это — его фрагмент. Это тоже очень важно. Но я привыкла играть по‑крупному. И я ни секунды не жалею, что не стала узким специалистом.
к концу жизни меня волнует только одно: что будет дальше.
я думаю, скоро человек выйдет на какой-то иной уровень создания искусства. Но пока мне не хватает воображения, чтобы понять, каким это искусство будет.
я знаю одно: жизнь — это необыкновенный дар». //https://esquire.ru/rules/37872-irina-antonova/

 …….Ти-ши-на….. Оум…..
…….Ти-ши-на….. Оум…..Очень точное и актуальное послание Президента Музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Александровны Антоновой:
«Я думаю, в первые десятилетия XX века закончился огромный исторический период в искусстве, включающий в себя и тот, что начинался Ренессансом. Мы свидетели действительно большого кризиса художественной системы. И этот кризис может длиться не одно столетие, сопровождаясь реминисценциями. На разных этапах это было: от Античности к Средним векам, от Средних веков к Возрождению. И вот сейчас, захватив почти весь двадцатый, этот кризис, вероятно, продлится и весь XXI век. Меня часто спрашивают, что такое «Черный квадрат» Малевича. Я отвечаю: это декларация — «Ребята, все кончилось». Малевич правильно тогда сказал, суммируя глобальную деформацию и слом, отраженные прежде в кубизме. Но ведь трудно с этим смириться. Поэтому и началось: дадаизм, сюрреализм, «давайте вещи мира столкнем в абсурдном сочетании» — и поскакало нечто на кузнечиковых ногах. И дальше, и дальше… уже концептуализм, и проплыла акула в формалине. Но это все не то, это упражнения вокруг пустоты: чего бы такого сделать, чтобы удивились и не обсмеяли.
Больше того, начиная с XVIII века начался глобальный процесс, который я называю «Гибель богов» — недаром есть такая опера у Рихарда Вагнера. Потому что этот фактор — мифологический — перестал быть главным содержанием и оказывать влияние на пластические искусства. Можно писать «Явление Христа народу» и в тридцатом столетии, но его время, время известного нам великого искусства, кончилось. Мы видим, как разрушается принцип эстетики, духа и принцип идеала, то есть искусства как высокого примера, к которому надо стремиться, сознавая все свое человеческое несовершенство. Возьмите Достоевского. Его Сонечка в совершенно ужасающих обстоятельствах сохраняет ангельскую высоту духа. Но в новом времени, а значит, и в искусстве Дух становится никому не нужен. Поскольку искусство, хотите вы этого или нет, это всегда диалог с миром.
А в мире и сейчас, и в обозримом грядущем осталась только реальность как стена, как груда кирпичей, которую нам и показывают, говоря: вот это искусство. Или показывают заспиртованную акулу, но она вызывает только отвращение, она не может вызвать другое чувство, она не несет ничего возвышенного, то есть идеала. Как выстраивать мир вокруг отсутствия идеала?.. Я не пророк, но мне ясно: то, что сейчас показывают на наших биеннале, это уйдет. Потому что консервированные акулы и овцы — это не художественная форма. Это жест, высказывание, но не искусство.
Пока есть — и он будет длиться долго — век репродукций, век непрямого контакта с художественным произведением. Мы даже музыку слушаем в наушниках, а это не то же самое, что слышать ее живьем. Но репродукция ущербна, она не воспроизводит даже размера, что уж говорить о многом другом. Давид и его уменьшенный слепок — это не то же самое, но чувство «не то же самое», оно потеряно. Люди, посмотрев телевизионную передачу о какой-либо выставке, говорят: «Зачем нам туда идти, мы же все видели». И это очень прискорбно. Потому что любая передача через передачу абсолютно не учит видеть. Она в лучшем случае позволяет запечатлеть сюжет и тему.
Постепенно люди отвыкнут от прямого общения с памятниками. К сожалению, несмотря на туризм и возможность что-то посмотреть, новые поколения все больше будут пользоваться только копиями, не понимая, что есть огромная разница между копией и подлинным произведением. Она зависит от всего: от размеров, материала, манеры письма, от цвета, который не передается адекватно, по крайней мере сегодня. Мазок, лессировка, даже потемнение, которое со временем уже входит в образ, мрамор это или бронза, и прочее, прочее — эти ощущения окончательно утеряны в эпоху репродукций. Я не мистик, но есть определенное излучение той силы, которую отдает художник, работая над картиной иногда много лет. Это насыщение передается только при прямом контакте. То же с музыкой. Слушать музыку в концертных залах и ее воспроизведение даже на самом новейшем носителе — это несравнимо по воздействию. Я уже не говорю о той части общества, которая читает дайджесты и выжимку из «Войны и мира» на сто страниц.
Вот с этим укорочением, уплощением и обеззвучиванием человечество будет жить, боюсь, долго. Необходимо будет снова воспитать в человеке понимание, что ему необходим сам подлинник как живой источник, чтобы сохранять полноценный тонус эмоциональной жизни.
Власть технологий приведет к тому, что все будет исчерпываться получением информации, но будет ли уметь человек грядущего читать глубину, понимать суть, особенно там, где она не явна? Или он не увидит ничего, например, в суриковской «Боярыне Морозовой», кроме фабулы: на санях увозят женщину, поднимающую свой знак веры, а кругом народ. Но почему сани идут из правого угла в левый верхний? Между тем это не просто так, Суриков долго над этим работал и почему-то сделал так, а не по-другому. Будут люди задумываться над тем, почему тот или иной портрет профильный, а не фасовый? Или почему, например, фон просто черный?
Чтобы содержание искусства было доступно людям будущего, надо смотреть на великие картины, надо читать великие произведения — они бездонны. Великая книга, будучи перечитанной на каждом новом этапе жизни, открывает вам свои новые стороны. Я пока знаю тех, кто перечитывает великие книги. Их еще много. Но все больше будет людей, кто никогда не станет перечитывать ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Гете, ни Томаса Манна. Понимание поэзии тоже уходит. Думаю, в будущем только редчайшие люди будут наслаждаться строками «На холмах Грузии лежит ночная мгла…».
Я не могу предвидеть изменения во всей полноте, как не могла предвидеть интернет. Но знаю, что необходимость в искусстве, вот в этом эстетически идеальном типе деятельности человеческой, снова наберет силу — но мы пока не знаем, в какой форме. И знаете, из чего я делаю такой вывод? Из того, что люди — вы, я, много еще людей — они продолжают рисовать пейзажи, писать стихи, пускай неумелые и незначительные, но эта потребность есть. Маленький ребенок всегда начинает рисовать маму — сначала вот этот кружочек и палочки, потом, когда сможет, он напишет «мама», а потом нарисует рядом домик, потому что он в нем живет. Потом он сам сочинит песенку, потычет пальчиком в клавиши и сыграет мелодию. Первобытный человек лепил Венеру с мощными формами, как Землю, которая рождает. Потом она превратилась в Венеру Милосскую, в Олимпию и Маху. И пока у нас будут две руки, две ноги, пока мы будем прямоходящими и мыслящими, потребность в искусстве будет. Это идет от человеческой природы с начала времен, и все будет так, если ее, конечно, не искорежат совсем.
А пока не появились зеленые листочки, пока не видно новых Рублева, Леонардо, Караваджо, Гойи, Мане, Пикассо, так уж огорчаться не надо — человечество создало столько великого, что и нам с вами хватит вполне, и вообще всем.
Так получилось, что моя специальность подразумевает историческое видение. И в истории уже бывали такие моменты, когда все подходило, казалось бы, к финальной точке, но потом вдруг появлялись новые люди и что-то происходило. На это и следует надеяться. Потому что уж слишком сейчас явственна индифферентность по отношению к искусству. Культуре не помогают. Не помогают даже умереть. Просто совсем игнорируют. Но многие при этом делают очень умный вид и непрерывно кричат: духовность, духовность. Но нельзя же свести духовность только к религиозному мироощущению. Как нельзя не понимать, что плохое образование, несмотря на интернет, только добавляет хрупкости цивилизации в целом».
****************************************************************************************************
Ирина Антонова: «Искусство – это антисудьба»
Posted on 07.06.2017 by Владимир Дианов
Президент ГМИИ имени А. С. Пушкина Ирина Александровна Антонова в интервью с историком Владимиром Рудаковым рассуждает на очень важные темы: об интересе к жизни, социальных революциях, и конечно же − о значении искусства в нашей жизни. Полностью материал опубликован в интернет-журнале «Историк.рф». Вот лишь наиболее интересные выдержки из беседы.
Ирина Антонова: «Желание жить и стремление к внутренней активности − его нельзя сымитировать, а вот чем оно питается, я не могу вам сказать. Я действительно не знаю. Я просто наблюдаю, что у кого-то оно есть, а у кого-то его нет. Но думаю, что это, конечно же, продлевает жизнь. Знаете, хотят услышать о каких-то усилиях, которые предпринимаются для продления жизни. Мне кажется, важен, безусловно, и спорт, важно следить за здоровьем, но главное − это не терять интереса к жизни, к самому процессу. А вообще, по большому счету, надо продолжать любить. Понимаете, очень важно сохранить это чувство. Вы должны что-то или кого-то очень любить. И это должно оставаться с вами.
Хорошо, что люди обращаются к искусству. Мне это, конечно, очень нравится. Но, с другой стороны, надо прислушаться и понять, чем это вызвано. Какие социальные механизмы запустили этот интерес? Еще несколько лет назад − на рубеже 2011–2012 годов − некоторые публицисты пугали нас тем, что у нас в России чуть ли не революционная ситуация. Но никакой революционной ситуации ни тогда не было, ни сейчас в нашей стране нет. Наверное, даже наоборот: есть какая-то социальная апатия, что мне лично не очень нравится. Ведь недаром народ ринулся в музеи, в театры, на концерты − это своего рода уход от действительности, это такой эскапизм… Желание уйти немножко в другой мир. Кстати говоря, качество художественной продукции, которую сегодня демонстрируют, порой бывает очень высокое, а порой, напротив, заниженное, и это чувствуется − и в театрах, и в музеях. Происходит расширение горизонтов − такая, знаете ли, популяризация искусства, но она не всегда оказывается на нужном уровне. Мне хочется другого отношения к искусству, по-настоящему глубинного понимания. Над этим надо работать. А музеи, как мне кажется, почувствовали, что можно создать ажиотаж, и этим немножко пользуются. Мое глубокое убеждение состоит в том, что музей не должен превращаться в галерею. В галерее сидят люди без специального образования. Им главное − показать. Музей же − это просветительство, это воспитание, это работа с детьми, развитие у них навыков видеть искусство. В этой работе совсем другой смысл. Но сам по себе интерес людей к искусству − это очень любопытный феномен. Он требует глубокого социологического исследования, за ним надо внимательно наблюдать. Наступает момент, когда надо думать о том, куда идти дальше, как дальше развивать музейное, выставочное дело.
Революции − нравятся ли они нам как метод решения социальных проблем или не нравятся − не возникают из ничего, они, как правило, знаменуют собой определенные переломы в жизни обществ. Переломы, которые вызревали подспудно и вот выливаются наружу. Я, например, в силу профессии читаю про нидерландское искусство XVI века, про эпоху Нидерландской буржуазной революции, и я понимаю, что тогдашнее общество действительно стояло на пороге перемен, что революция там назрела. И это ощущение надвигающегося перелома можно почувствовать и на полотнах Брейгеля, и на полотнах Босха. Те же настроения в искусстве в эпоху Английской революции середины XVII века. Да − кровь, да − отрубают голову королю. Потом Великая французская революция: опять кровь, гильотина. И опять в воздухе, в искусстве носится ощущение того, что слом назрел, что без него никуда. Это касается и наших революций, и меня убеждает в этом в первую очередь наше искусство начала ХХ века. То, что произошло тогда в искусстве, и то, как к этому шел мир, мы видим не только у Пикассо, но и у наших авторов. Вот тот же «Черный квадрат» Малевича, в котором не надо искать никакой мистики, на который не нужно смотреть как на картину. Это был манифест. Художник ведь сказал просто, но твердо и ясно: «Все закончено, и больше того, что было, не будет никогда, отныне все будет по-другому». И это не только в изобразительном искусстве. Давайте почитаем Блока, Горького, Пастернака, Цветаеву. Это были крупные и не похожие друг на друга художники, но революция уже звучала в их произведениях начала века. А музыка: и Скрябин, и Стравинский, не говоря уж о Шостаковиче?! Деятели культуры − настоящие, крупные художники − слышат свое время. Они слышат его поступь загодя. Как мыши на тонущем корабле или как коты накануне землетрясения: катастрофы еще нет, а они уже слышат ее приближение и спасаются.
Наша революция, что бы о ней сейчас ни говорили, − великая и совершенно неизбежная. Она назрела в России, она не могла не случиться. Ну а дальше − это уже логика и законы самой революции. Тут уже вмешивается другой фактор, который создает специфику каждой конкретной революции, − это сам человек и его взаимоотношения с обществом. То, на что он способен и на что не способен. Ведь никто же не делает революцию под лозунгом: «Давайте сделаем ее, чтобы всех потом изничтожить и самим погибнуть». Возникают утопические теории, в которых на первом месте всегда добро, свобода, равенство, братство. Это позже благие намерения заменяются чем-то прямо противоположным. Но в момент самой революции никто об этом не думает.
В конце жизни Мальро сформулировал идею, с которой можно соглашаться, можно не соглашаться, можно по-разному ее понимать, но которая мне очень близка. Он говорил: «Искусство − это антисудьба». Он много размышлял и писал о смерти. И в итоге, как мне кажется, пришел к мнению, что искусство − это то единственное, что в действительности противостоит смерти. Ведь судьба всего живого − это в конечном счете смерть: будь то цветок, будь то человек. Мы все уходим. А искусство позволяет остановить этот уход. Это и есть антисудьба.
Как оно останавливает этот уход? Это происходит в тот момент, когда искусство оказывается пережито человеком, когда становится его сущностью. Мы переживаем, и тем самым мы уже как бы отражаемся и в картине Рембрандта, которую мы видим, и в музыке Чайковского, которую мы слышим. Мы продолжаем себя в этих произведениях. В них остается наша частичка. Вот мы постояли перед «Ночным дозором» Рембрандта или перед его же «Блудным сыном»: наши раздумья, наши чувства, наши слезы, пролитые над ними, они остаются. Мы обогащаем эти произведения своим пониманием, своим волнением, своим сердцем. Своим счастьем от встречи с ними, наконец. И в этом сопереживании мы продолжаем существовать, если, конечно, мы воспринимаем искусство и им живем. Вот отсюда, как мне кажется, тезис Мальро: «Искусство − это антисудьба». То, что он называл, «непредвиденное бытие».
Меня совершенно поразил очерк сейчас уже подзабытого, а в свое время очень известного писателя второй половины XIX века Глеба Успенского. Очерк называется «Выпрямила» − о бедном учителе, прозябающем где-то в провинции, человеке забитом, убого живущем, но при этом с необыкновенными внутренними чувствами. И вот он получает возможность, сопровождая своего воспитанника, совершить поездку в Париж. В какой-то момент они попадают в Лувр и там оказываются перед Венерой Милосской. И этот учитель, пораженный ее красотой и величием, почувствовал себя равным ей по силе своего понимания красоты, сопричастности истинному величию. Поэтому очерк и называется «Выпрямила». Понимаете? Он распрямился, он выпрямился. Это рассказ о силе искусства, это рассказ о том, что «искусство − это антисудьба».// http://dianov-art.ru/2017/06/07/irina-antonova-iskusstvo-eto-antisudba/
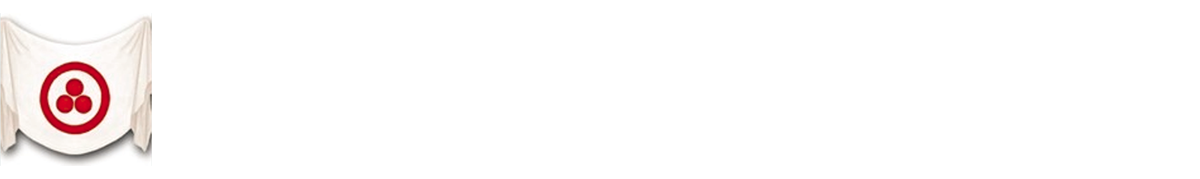
+ https://www.youtube.com/watch?v=JqP_7IU3R10 …… ОМ!
Документальный фильм о И.А. Антоновой на канале Культура см.:
https://smotrim.ru/brand/61659 — «Одиночество на вершине».
О фильме
Весной 1945 года Ирина Антонова, едва окончив университет, пришла в Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Она не знала тогда, что музей станет ее судьбой, а она сама – легендой не только в России, но и во всем музейном мире. Этот фильм – монолог о времени и о себе. «Время Антоновой» подарило нам первые встречи с Тышлером и Шагалом, Джокондой и Эль Греко, «Декабрьские вечера» и исторические выставки, среди которых «Москва – Париж» и «Москва – Берлин». Ее время совпало с ХХ веком, и она пережила его взлеты и падения, ошибки и прозрения. Но не изменила себе и сегодня осмысляет свой путь в жизни и в искусстве.
Документальный фильм (Россия, 2017). 4 серии.
Режиссер: Елена Якович