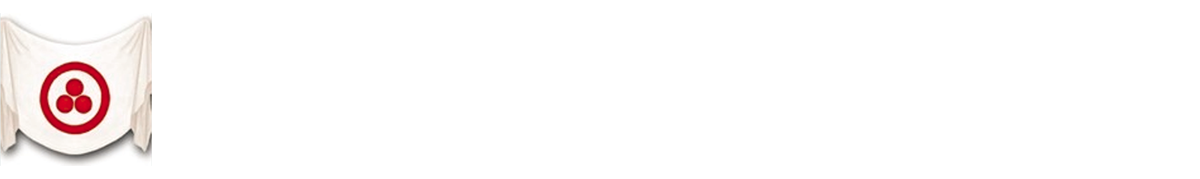ПОРУС Владимир Натанович – доктор философских наук, ординарный профессор НИУ ВШЭ, Москва.
 В статье предложен подход к проблеме понимания художественного текста, позволяющий перенести ее обсуждение на почву философии культуры. Предложена типология понимания художественного текста. Первый тип: “понимание” – выяснение или усвоение смысла того, что понимается. Выясненный смысл становится знанием: понять текст – значит знать его смысл. Второй тип: “понимание” есть интерпретация, наделение смыслом. Интерпретация есть акт творчества, инициированный текстом, но поддерживаемый сознанием свободы субъекта, совершающего этот акт. Третий тип: “понимание” есть процесс со-творения смысла художественного текста, в котором автор текста и понимающий субъект участвуют на равных, вовлекая в это участие всю совокупность культурных факторов. Художественный текст, как и все искусство, живет, если постоянно развивается, меняется его понимание, если не останавливается процесс со-творения, обновления и восстановления его смысла.
В статье предложен подход к проблеме понимания художественного текста, позволяющий перенести ее обсуждение на почву философии культуры. Предложена типология понимания художественного текста. Первый тип: “понимание” – выяснение или усвоение смысла того, что понимается. Выясненный смысл становится знанием: понять текст – значит знать его смысл. Второй тип: “понимание” есть интерпретация, наделение смыслом. Интерпретация есть акт творчества, инициированный текстом, но поддерживаемый сознанием свободы субъекта, совершающего этот акт. Третий тип: “понимание” есть процесс со-творения смысла художественного текста, в котором автор текста и понимающий субъект участвуют на равных, вовлекая в это участие всю совокупность культурных факторов. Художественный текст, как и все искусство, живет, если постоянно развивается, меняется его понимание, если не останавливается процесс со-творения, обновления и восстановления его смысла.
Ключевые слова: художественный текст, понимание, смысл, интерпретация.
Проблема понимания (в ее философском аспекте) имеет множество трактовок, в том числе “классических” (Ф. Шлейермахер, В. Дильтей, П. Рикёр, Э. Шпрангер, Г.Г. Шпет, М.М. Бахтин, Х.-Г. Гадамер, М. Хайдеггер, К. Гемпель и др.). Каждая из них принадлежит своей интеллектуальной традиции, наследуя у нее свои достоинства и недостатки. Когда о понимании рассуждают философы, они принимают во внимание психологический, социологический, лингвистический, педагогический, историко-культурный и другие аспекты этой проблемы. Литература, в которой представлены эти рассуждения, практически необозрима. Пытаясь что-то добавить к ней, рискуешь двояко: с одной стороны, оказаться в положении незадачливого изобретателя велосипеда, с другой – стремясь к полноте обзора мнений и взглядов, так и не сказать то, ради чего взялся за это дело.
Здесь я обозначу некоторые предпосылки подхода к проблеме понимания художественного текста, позволяющие перевести ее обсуждение на почву философии культуры.
Прежде всего, это трактовка всякого текста как определенным образом организованного и осмысленного информационного пространства, границы и структуру которого образуют знаковые конструкции; смысл конструкций и самого текста не сводится к сумме смыслов своих элементов. Иначе говоря, понимая смысл отдельных элементов (слов, предложений, фрагментов и т.п.), можно не понимать смысла всего текста. Впрочем, и наоборот, можно в известной мере понимать текст, не понимая каких-то его элементов. Отсюда вопрос о значимости тех или иных элементов для понимания текста в целом.
Если принять эту трактовку, то открывается возможность широкого применения понятия “текст” вплоть до приравнивания его к понятию “культура”: культура как универсальный текст обнимает собою все свои знаковые элементы, будучи условием и средой их существования и осмысления (Ю.М. Лотман).
Смысл любого фрагмента, как и смысл текста в целом, располагается и определяется в “смысловых пространствах”: семантическом, прагматическом и ценностном. Структурой и “наполнением” этих пространств интересуются различные науки – от семантики и прагматики до психолингвистики и “теории художественного текста”. Последнее выражение все же, по-видимому, эмфатическое. Возможно, было бы вернее говорить о применении к художественному тексту элементов теоретического анализа и конструирования. Тем не менее есть традиция “онаучивания” рассуждений о художественности с привлечением многообразных описаний того, что признается спецификой художественных произведений (образность, метафоричность, наличие эмоционально-нагруженных выражений, сравнений, эпитетов, фантастических смыслов и многого другого).
В основу так называемой “теории художественного текста” может быть положена мысль Ю.М. Лотмана: “…текст, с одной стороны, уподобляясь культурному макрокосму, становится значительнее самого себя и приобретает черты модели культуры, а с другой, он имеет тенденцию осуществлять самостоятельное поведение, уподобляясь автономной личности” [Лотман 1992, 132]. Такое понимание художественности имеет далеко идущие последствия для философии культуры, теории искусства и социальной теории познания, в которой проблема понимания является одной из ключевых.
Например, если видеть в художественном произведении игру по определенным правилам (Х.-Г. Гадамер) и при этом признать за ним столь фундаментальную роль, как это следует из высказываний Ю.М. Лотмана, то и сама культура может быть представлена как всеохватная, колоссальная по объему и значительности игра, в которой участвуют громадные человеческие общности, находящие в ней форму и смысл существования. Здесь перекличка с М. Хайдеггером, полагавшим искусство выражением “истины бытия”. Но все же, с моей точки зрения, искусство – путь к пониманию бытия, а не само бытие.
Применительно к отношению искусства и культуры это означает, что искусство есть форма, в которой культура осознает себя как таковую, а художественность есть условие, благодаря которому это осознание возможно. Такая трактовка искусства и художественности связана с критикой универсализированного рационализма, который функцию самосознания культуры признает за рефлексией, осуществляющейся прежде всего в философии и науке, которые якобы направляют и определяют духовную и интеллектуальную деятельность. Будучи односторонней, эта критика бумерангом возвращается к себе самой. Как почти всегда бывает в подобных ситуациях, противоположности сопряжены по смыслу и образуют то, что Н. Бор называл дополнительностью взаимоисключающих описаний.
Иначе говоря, художественное и рациональное идут рука об руку к “истине бытия”, не отталкивая друг друга, но черпая силы движения во взаимной критике. Если текст и его фрагменты могут одновременно располагаться в различных смысловых пространствах, можно сказать, что специфика художественного текста состоит в том, что он главным образом осмысливается в пространстве ценностей (эстетических, нравственных, духовных, в том числе религиозных, и др.). Это не принижает роли “семантического измерения” художественного текста, но побуждает рассматривать семантику последнего “сквозь призму” ценностей.
Если ценностная “нагруженность” текста (или его фрагмента) является условием его понимания, можно с высокой уверенностью считать текст художественным. Чтобы распознать эту “нагруженность”, нужно владеть тем, что называют “культурным кодом” или присущим данной культурной традиции способом “узнавания” ценностей, впечатленных в те или иные знаковые (символические) структуры.
Возьмем, к примеру, один из шедевров мировой поэзии: стихотворение Р.Фроста «Stopping by woods on a snowy evening».
Whose woods these are I think I know.
His house is in the village though;
He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with snow.
My little horse must think it queer
To stop without a farmhouse near
Between the woods and frozen lake
The darkest evening of the year.
He gives harness bells a shake
To ask if there is some mistake.
The only other sound’s the sweep
Of easy wind and downy flake.
The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep1.
Это стихотворение поражает безыскусностью, подчеркнутой простотой. Его художественная глубина словно прикрыта ею. Так прозрачность и чистота воды создает иллюзию близкого дна в глубоком водоеме. Чтобы нырнуть на эту глубину, добраться до “ценностно-смыслового измерения” стихотворения, нужно владеть “культурными кодами”. Среди них, например, метафора “пути”, по которому следует человеческая жизнь. Его конец известен и неотвратим, но дивная сила, великая и неразгаданная, заставляет идти по нему, ища цель и смысл этого движения. Покой желанен, хочется остановиться и отдохнуть в “чудном, темном и глубоком лесу” житейских соблазнов, тем самым бросив вызов этой силе. Но человек продолжает свой путь, повинуясь чувству собственного достоинства, долга, исполнение которого дает радость и освобождение духа.
Зная этот и другие коды, можно поднять и понять пласты художественного смысла поэтического шедевра. Тогда, например, станет ясным повтор двух последних строк, подчеркивающий напряженную работу духа, преодолевающего свою слабость и утверждающего силу в этом преодолении.
Теперь перейдем к типологии понимания художественных текстов.
***
Первый тип: “понимание” – выяснение или усвоение смысла того, что понимается. Выясненный смысл становится знанием: понять текст – значит знать его смысл. Предполагается, что текст обладает смыслом, “вложенным” в него автором. Тогда “понимание”, по сути, не отличается от “знания”: понять смысл текста – значит знать его, в каком бы пространстве смыслов он ни был расположен. Знание семантики текстового фрагмента открывает путь к знанию его ценностного смысла, а понимание последнего способно направить понимание семантики по правильному, то есть совпадающему с авторским замыслом пути.
Например, расшифровка Ж.-Ф. Шампольоном древнеегипетских иероглифов позволила прочитать тексты, которые не могли быть поняты без нее. Тем самым был найден ход к пониманию художественного смысла древнеегипетского искусства. Теперь благодаря этому, читая Горация, Державина и Пушкина, мы можем услышать в их “Памятниках” перекличку с древним поэтом эпохи Нового царства (XVI–XI вв. до н.э.), который говорит о вечности человеческой мудрости и красоты мысли.
...Книга лучше расписного надгробья
И прочной стены.
Написанное в книгах возводит дома и пирамиды в сердцах тех,
Кто повторяет имена писцов,
Чтобы на устах была истина.
(Перевод А.А. Ахматовой [Поэзия и проза 1973, 103])
Другой пример. В “Слове о полку Игореве” есть выражение “тмутараканский болван”, точный смысл которого нам не известен, хотя существуют различные гипотезы о нем. Д.С. Лихачев считал, что это выражение обозначает одну из огромных статуй божеств Санерга и Астарты, воздвигнутых в III столетии вблизи Тамани (в древней Тмутаракани) и простоявших вплоть до XVIII столетия. В поэме к этому “идолу” взывает некий “див”, предупреждающий безрассудного князя Игоря о грозящей ему беде [Лихачев 1983, 190]. А.Л. Никитин выдвинул иную гипотезу: “див” – это искаженное переписчиками древнее слово “зив”, обозначающее аиста или журавля, а обращается эта птица не к “идолу”, а к “тмутараканскому соколу” (древнее “балабан” – название одного из видов степных соколов) – так поэтически именуется князь Роман Святославич, герой более древней, чем “Слово”, поэмы легендарного Бояна, ставшей для автора “Слова” образцом для подражания, воспроизведения, сочетающего в себе элементы содержания и формы бояновского шедевра и сказания о походе новгород-северского князя [Никитин 1984, 185].
Мы не знаем, а может быть, и никогда не узнаем в точности, какая из этих гипотез верна. Но мы предполагаем, что эти гипотезы могут быть истинными либо ложными. Если бы смысл выражения “тмутараканский болван”, вложенный в него автором, как-то стал нам доподлинно известен, то он был бы нашим знанием. Если так, то к “пониманию текста” применимы все характеристики знания – истинность, вероятность, относительность, абсолютность, подтверждаемость, опровергаемость и т.д. При такой трактовке смысл текста не вносится в него понимающим субъектом, но познается им.
В принципе, объектом понимания может быть любой элемент из универсума человеческого познания, включая и сам этот универсум. Иначе говоря, познаваемый мир предстает как текст, осмысленный в целом и в каждом своем фрагменте. Отсюда известные метафоры “книги Природы”, “книги Бытия”, “книги Жизни”. Эти книги – кем бы ни были они написаны, Творцом или Природой – даны человеческому пониманию. Истинное понимание совпадает с имманентным смыслом или приближается к нему, ложное понимание искажает этот смысл, удаляется от него. Непонимание в конечном счете – просто незнание.
Сказанное в полной мере относится и к художественному тексту. Вспомним, что понимание Мира как величайшего произведения искусства было свойственно Платону и Аристотелю. Это подчеркивал А.Ф. Лосев: “…свою форму, как действующую причину, Аристотель понимает художественно… понятие субстанции сконструировано у Аристотеля по типу художественного произведения, что отношение формы и сущности, понятие действующей причины, органическое развитие и вся психология познания, вся телеология природы, каждый продукт произведения природы – все это Аристотель определяет, иллюстрирует, применяет в разных областях и вообще логически конструирует, только руководствуясь художественным чувством действительности, только понимая художественное произведение как естественный, нормальный и в то же время идеальный результат художественной деятельности вообще” [Лосев 1975, 612].
Учение Аристотеля о четырех причинах, по Лосеву, приводит к художественно-творческому пониманию мира. Природа есть произведение искусства. Душа есть принцип живого тела. Подобно тому, как всякое материальное тело есть нечто, то есть является тем или иным эйдосом, и подобно тому, как эйдос живого тела есть принцип его жизни, то есть его душа, подобно этому и всякая душа, движущая телом в том или другом направлении, тоже имеет свой собственный эйдос, который Аристотель называет Умом, так что душа, по Аристотелю, есть не более чем энергия Ума. Ум, свободный от чувственной материи, содержит свою собственную чисто умственную материю, без которой он не был бы художественным произведением.
Человек способен понять Мир как художественное произведение именно потому, что творчество природы и творчество человека, по Аристотелю, подчинены одному и тому же закону и одному и тому же всеобщему Уму. Человек осуществляет свое космическое предназначение, поскольку приобщается к разумному началу, существующему объективно в мире [Там же, 599]. В этом смысле понимание Мира как текста совпадает со знанием Мира.
Понимание ценностного смысла текста предполагает не только знание того, каким был этот смысл для автора, но и сопоставление его (насколько оно вообще возможно) с ценностями того, кто понимает этот текст. Иначе сказать, понимание ценностей связано с отношением к ним. Например, не будучи верующим, я понимаю ценностный смысл молитвы, ее красоту, характер и глубину чувства, которым она проникнута. Поэтому она может быть понята мною как художественное произведение, но это понимание открывает мне путь к пониманию религиозного чувства и его ценности. Хотя граница между эстетическими и религиозными ценностями очевидна, она может быть не барьером, а местом их встречи. Художественность и вера могут совместно работать, чтобы сделать эту встречу возможной.
Как в стихотворении М.Ю. Лермонтова:
Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка;
Когда, росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой,
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;
Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он, –
Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, –
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога…
Однако встреча может не состояться. По разным причинам, в том числе и потому, что понимание-знание может быть ложным: если ошибочно понять ценностный смысл художественного текста, заложенный в него автором, установить неверное отношение к нему. Иногда такие ошибки можно исправить, иначе говоря, помочь понять не только семантику текста, но и его художественные особенности, приблизить их понимание к адекватности. Научить видеть и понимать “художественное в тексте”, а по сути – ввести понимающего в жизнь культуры, сделать ее сознательным участником.
Как это сделать – такую задачу решают не только с помощью литературной критики, стилистики, истории культуры. Здесь главное – это психологическая, личностная предрасположенность: обучаемый должен захотеть, чтобы ему “открыли глаза”, и войти в мир искусства вслед за тем, кто этот путь ему указывает и открывает. И при этом быть готовым к переменам в своем внутреннем мире. К тому, чтобы стать другим человеком. Обучение пониманию художественного текста есть один из важнейших процессов формирования личности, а значит, и самой культуры.
Блистательным примером такого “введения в художественность” можно назвать доклад Иосифа Бродского на конференции в честь столетия Марины Цветаевой (Амхерст, США, 1992) о тончайших смысловых связях между стихотворениями М. Цветаевой и Б. Пастернака, под одинаковым названием “Магдалина”. Доклад завершается выводом о том, что: “…два эти стихотворения представляют собой единое целое, что под ними должны стоять оба имени, две даты – как доказательство, что двадцать шесть лет, их разделяющие, прошли, только чтобы их соединить. Может быть, это объяснит миру, чего стоит время в поэзии – во всяком случае, в русской поэзии” [Бродский 2001, 197].
Вывод интереснейший для литературоведов и историков русской поэзии. Но тому, кто хотел бы научиться понимать поэзию, наверное, более важно, как Бродский приходит к нему – как следопыт, восстанавливающий полноту событий по метам, мимо которых равнодушно пройдет непосвященный. “Глаза души” прошедшего вслед за ним этот путь читателя, можно надеяться, уже навсегда останутся открытыми для понимания красоты и величия поэтических шедевров.
***
Второй тип: “понимание” есть интерпретация, наделение смыслом. Если понимающий субъект придает свой смысл тексту и его фрагментам, то он исходит из своих ценностных, эстетических или каких-то иных предпочтений. Субъект может стремиться к тому, чтобы его интерпретация приблизилась к смыслу, вложенному в текст его автором, но так бывает не всегда. Интерпретация есть акт творчества, инициированный текстом, но поддерживаемый сознанием свободы субъекта, совершающего этот акт. Это относительная свобода не только от текста, но и от условия, по которому мое понимание должно совпасть с пониманиями других людей. Что, разумеется, не означает непременного стремления к “оригинальности”, непохожести, или к тому, чтобы навязать свое понимание другим, сделать его условием коммуникации по поводу текста. Такая коммуникация (обмен интерпретациями) возможна, если ее участники (явно или неявно) соглашаются друг с другом относительно того, что считать допустимым в различных интерпретациях, а что следует отбросить как неприемлемое. По сути, такие конвенции являются условием культурного общения не только в сфере искусства. Но в ней они являются ярким (и, возможно, наиболее сложным) примером образования культурных форм, в которых сочетание динамизма и устойчивости есть условие их жизнеспособности.
Взаимопонимание, достигаемое в коммуникациях по поводу художественного текста, не всегда требует эксплицируемых соглашений, но может возникать “спонтанно”, особенно когда коммуниканты принадлежат к одной культурной группе, разделяют (до начала коммуникации) общие смыслотворческие интенции, не имеют важных разногласий относительно художественных и иных ценностей. В иных случаях возможна ситуация, которую П. Рикёр назвал “конфликтом интерпретаций” [Рикёр 1995]: если различие интерпретаций существенно и если оно препятствует сочувственному взаимопониманию, конвенции оказываются слишком трудными или невозможными, возникает конкуренция между ними. Такая конкуренция возможна не только между интерпретациями, идущими от различных субъектов, но и в сознании одного и того же субъекта (причины такой “внутренней борьбы” могут выясняться, например, психоанализом, герменевтикой и др.).
Конкуренция интерпретаций может быть представлена как игра, правила которой заранее не установлены или неизвестны ее участникам. Победа в такой игре оценивается иронично, она ничем принципиальным не отличается от проигрыша – и то, и другое условно и временно. К такому пониманию коммуникаций по поводу художественных текстов склоняются исследователи, близкие постмодернизму как направлению философской и искусствоведческой мысли.
Интерпретация художественного текста – не одноразовый акт, но процесс, включающий различные стадии – от первоначальной, возможно, приблизительной и даже не вполне осознанной интерпретации до устойчивого толкования, усиленного и поддержанного критической рефлексией, сопоставлением с другими интерпретациями в коммуникативных процессах, осознанием последствий, которые данная интерпретация вызывает в самооценке субъекта, ее влияния на психическое равновесие, укрепление или разрушение “внутренней гармонии” и т.п.
Н.И. Колодина различает три типа интерпретации: истолковывающую, распредмечивающую и критическую. Истолковывающая интерпретация продолжает акт чтения, подключая психические (эмоциональные) переживания при восприятии текста, которые создают фон понимания и влияют на развитие последнего. При этом субъект не выстраивает собственную систему смыслов, вкладываемых в текст, но как бы готовится к этому под воздействием впечатлений, доставляемых ему чтением.
Распредмечивающая интерпретация – построение своей системы смыслов с активизацией когнитивных способностей субъекта: здесь происходит соотнесение того, что субъект усматривает как смысл художественного текста, с тем, каким образом этот смысл передается (со средствами смысловой трансляции).
Наконец, критическая интерпретация – это соотнесение построенной системы смыслов с переживаниями, вызываемыми ею; иначе говоря, это отрефлектированное участие личности в понимании текста [Колодина 2001, 95–96].
Интерпретированный художественный текст может обрести отдельное от источника существование, получая вербализованные или как-то иначе “воплощенные” формы. Бывает, что такие интерпретации надолго вытесняют из культурного обихода оригинальные тексты, получая по тем или иным причинам широкое распространение и даже канонизируясь, проникая в структуры социальной памяти и оседая в них. В таких случаях преодоление “гипноза” интерпретации и возвращение к первоначальному или “аутентичному” смыслу текста может представлять сложную исследовательскую и педагогическую (когда речь идет о художественном образовании и воспитании) задачу.
Например, критическая интерпретация образа Обломова, героя романа И.А. Гончарова, как типичного представителя “лишних людей”, отчужденных от социальной жизни и влачащих бесплодное и тоскливое существование, получившая широкое распространение после статьи Н.А. Добролюбова “Что такое обломовщина?”, долгое время была канонической в российском, а затем советском литературоведении. Только сравнительно недавно были сделаны попытки увидеть в Обломове не социального паразита и ленивого мракобеса, а носителя светлой мечты о совершенстве человеческих отношений, которого “отставила” от себя действительность, подчинив себе его жизнь и изуродовав его душу [Лощиц 1986].
“Герой романа Илья Обломов, – пишет В.К. Кантор, – далеко не одномерен: мне он представляется трагическим героем, изображенным иронически, хотя и с горькой иронией, возможно, даже с любовью” [Кантор 2005, 314]. Изображенный с любовью Гончаровым, Обломов способен вызывать такое же чувство и у современного читателя, и это не сентиментальная, а суровая любовь, вырастающая на почве горького опыта российской истории.
Художественный текст (и, конечно, стоящий за ним автор!) не равнодушен к различным интерпретациям, поэтому часто в нем можно найти “подсказки”, которые помогают читателю выявить скрытые, “зашифрованные” смыслы. Будучи услышанной, такая “подсказка” создает особую близость между читателем и текстом. Она не должна быть навязчивой, прямолинейной, не оставляющей места для фантазии и воображения интерпретатора – это лишило бы его счастья понимания и творчества. Здесь важно чувство такта и меры – как со стороны автора, так и со стороны читателя. Когда их достаточно, возникает особое чувство доверия, благодаря которому интерпретация, оставаясь творческим конструированием смысла, в то же время остается поиском авторского замысла, с которым это конструирование сплавляется в новую целостность.
Мастером таких “подсказок” был А.П. Чехов. Например, в его рассказе “Дама с собачкой” есть два эпизода, перекликающиеся как будто незаметной, но важной для их понимания деталью. В тот момент, когда героиня рассказа, Анна Дидериц охвачена безрассудной решимостью отдаться своему внезапно вспыхнувшему чувству к Дмитрию Гурову, она в суматошном порыве теряет среди уличной толкотни лорнетку. Когда же истомленный сознанием утраченной любви Гуров приезжает к ней из Москвы в провинциальный город С. и они неожиданно встречаются, она изо всех сил сжимает в руке лорнетку – памятный знак пережитого однажды безумия страсти. Мы заметим это движение и поймем, что Анна не только пытается сохранить контроль над собой, она уже безошибочной интуицией уловила, что эта встреча не случайная и не последняя, что впереди что-то большое, не проходящее, то, что нужно во что бы то ни стало удержать, не потерять в суетливой поспешности. Жест Анны – ключ к пониманию ее душевного состояния, тонкая “подсказка” Чехова, оставляющая простор читательскому воображению, конструированию смыслов, творческой интерпретации.
Злоупотребление “подсказками”, назойливое “подсовывание” смыслового ключа читателю, навязывание ему определенной трактовки текста и его ценностного содержания – все это приводит к обратному результату. Когда интерпретация читателя резко расходится с той, которая ему “подсказывается”, он ощущает угрозу своей творческой свободе и так или иначе игнорирует или отвергает попытки думать и чувствовать за него. Либо подвергает текст нарочито противоположной интерпретации, принижая или искажая навязываемые ему смыслы (чтение “навыворот”, пародийное высмеивание). Особенно это характерно для восприятия “канонизированных” художественных текстов, используемых для идеологических целей. Примерами в русской литературе могут служить некоторые произведения М. Горького, А. Фадеева, В. Маяковского и др.
Пожалуй, наиболее характерный случай интерпретации – художественный перевод. Переводчик так или иначе воссоздает художественный смысл переводимого текста (особенно в поэзии), изыскивая подходящие для этого языковые средства, которыми располагает родной язык. При этом приходится признать, что таких средств всегда недостаточно, и переводчик свою интерпретацию может рассматривать как собственное художественное произведение, замысел которого инициирован переводимым текстом. Нередки случаи, когда перевод оказывается равным конкурентом оригинала, а то и превосходит его художественными достоинствами, становится фактом художественной культуры той языковой среды, в которую переводчик пытался ввести переводимый текст. Переводы “Лесного царя” и “Фауста” Гёте В.В. Жуковским и Б.Л. Пастернаком, “Еврейской мелодии” Байрона М.Ю. Лермонтовым, “Цыганского романсеро” Ф.Г. Лорки А.М. Гелескулом, “Иосифа и его братьев” Т. Манна С.К. Аптом могут служить примерами такой ассимиляции творений европейских гениев русским языком и литературой.
Проблема художественного перевода слишком сложна, чтобы рассматривать ее здесь так подробно, как она того, без сомнения, заслуживает. Ей посвящена огромная литература, поток которой не ослабевает [Bassnett, Lefevere (ed.) 1992]. Как замечает Н.С. Автономова, “…работа перевода не легче, чем строительство (Вавилонской. – В.П.) башни, только она не притязает достичь небес. Она связана с риском и отвагой, преодолевающей страх перед чужим, перед непереводимым. Человеческим уделом становится другое строительство – не башни, но той области соизмеримого опыта, в которую каждый из нас, отказываясь от гордыни поиска абсолютного совершенства, приносит нечто свое, понимая (как это понимает каждый переводчик), что нет приобретений без потерь… Встречая в этой работе Другого, человек только и может строить себя” [Автономова 2008, 6].
К этому добавлю только следующее. Авторское и переводческое понимание художественного текста всегда образуют противоречивое единство. Такое противоречие никогда не будет разрешено – и это прекрасно, потому что именно оно создает поле творческого напряжения, в котором осуществляется плодотворный контакт культур.
Замечу à propos, что всякая интерпретация (следовательно, любое нетривиальное, творческое прочтение) художественного текста, по сути, есть своего рода перевод. Это столкновение смыслов, в котором смыслы, вносимые в текст интерпретатором, могут отступать, ослабевать или, напротив, набирать силу объяснения и понимания. Такая борьба может доставлять радость творческой личности и угнетать личность пассивную, для которой возможный конфликт пониманий становится тяжким переживанием или даже поводом к враждебности по отношению к “инакопонимающим”. Этим отчасти объясняется напряженность дискуссий вокруг художественных текстов, вызывающих бурное неприятие у одних и восторги – у других.
Например, одно из лучших произведений русской художественной литературы ХХ в. – поэму “Москва – Петушки” Венедикта Ерофеева – часто интерпретируют как ёрническую поделку или симпатическое описание беспробудного пьянства, что объясняется не только стилистикой поэмы, но прежде всего – шоком от трагического вызова, брошенного в ней современному фарисейству, превращающему культуру в “симулякр”, от трагического гимна “силе бессильных” (вспомним, так называется знаменитая книга В. Гавела), смиренная совестливость которых противопоставлена насилию и унижению человека.
***
Третий тип: “понимание” есть процесс со-творения смысла художественного текста, в котором автор текста и понимающий субъект участвуют на равных, вовлекая в это участие всю совокупность культурных факторов. Можно сказать, что его результатом является осознание совместного духовного бытия понимающего и понимаемого. Это осознание лежит в основе особого “чувства понимания”, не сводимого к знанию и передаваемого не в трансляции смыслов, а в совместном переживании, эмпатии. Это чувство может приносить радость, даже счастье (“Счастье – это когда тебя понимают”), но и горе, разочарование, трагическое одиночество, ощущение недостижимости взаимопонимания.
“Сказать вам, какими качествами определяется, по-моему, настоящее искусство? – спросил как-то совсем уже старый Ренуар одного из своих будущих биографов Вальтера Паха. – Оно должно быть неописуемо и неподражаемо… Произведение искусства должно налететь на зрителя, охватить его целиком и унести с собой. Через произведение искусства художник передает свою страсть, это ток, который он испускает и которым он втягивает зрителя в свою одержимость” [Виленкин 1989, 121]. Здесь речь идет о живописи, но те же слова могли бы быть сказаны и о литературном произведении. Вообще говоря, сказанное о художественном тексте может быть верным по отношению к любому произведению искусства (как уже замечено выше, понятие “текст” допускает самые широкие истолкования, распространяясь на музыку, скульптуру, театр, архитектуру и другие виды искусства).
Отметим, что третий тип понимания художественного текста является синтетическим и включает в себя первые два как необходимые компоненты. Разумеется, продуктивно участвовать в совместном творении смысла можно, только обладая достаточными знаниями о первоначальных замыслах художника, а также имея возможность интерпретации, т.е. обладая достаточным потенциалом смыслотворения.
Сочетание всех трех типов может иметь место не только по отношению к художественному произведению. Можно говорить лишь о преобладании того или иного типа в данной сфере жизни. Например, пониманию произведения искусства вовсе не чуждо стремление к объективному знанию его смысловых компонент, а понимание в коммуникативных процессах (например, в диалоге искусствоведов или историков литературы) почти всегда осуществляется через соперничество интерпретаций, перевод художественного произведения часто сопряжен с “перевоплощением переводчика”, ощущением духовного родства или, напротив, глубокой отчужденности по отношению к автору оригинала и его ценностной ориентации.
В истории философского литературоведения имело место противопоставление этих типов, связанное прежде всего с критической реакцией на позитивизм со стороны “духовно-исторической школы” (В. Дильтей, Р. Унгер, Ф. Гундольф и др.), которое вело к отрицанию возможности понимания в естествознании (задача науки сводилась к феноменологической регистрации и сочленению опытных данных) и, напротив, к иррационализации понимания в гуманитарной сфере (2). Но эта школа и “философия жизни” в ее литературоведческом применении (при всех критических замечаниях, которые можно сделать в ее адрес) правильно поставила акцент на понимании художественного произведения как проникновения в духовный мир человека, на перевоплощении, самоотождествлении читателя с миром художественного вымысла.
Сотворчество реципиента с автором художественного текста должно быть подготовлено вовлечением первого в процесс актуализации культурного потенциала. На это, в частности, направлено развитие искусствознания, которое влияет на все процессы обучения пониманию искусства и воспитания чувств, какими это понимание живет. Искусствоведы могут исследовать те или иные особенности художественных произведений: подсчитать соотношение и взаимное расположение ударных и неударных слогов стиха, найти геометрические пропорции скульптур Фидия, установить законы светотени на полотнах Рембрандта, определить психологические нормы восприятия обратной перспективы на древнерусских иконах. Такие знания могут быть полезными не только с искусствоведческой точки зрения. Они могут дать основу сознательного и грамотного восприятия произведений искусства, обогатить его, создать условия для культурной коммуникации в мире искусства. Без такого понимания не может быть профессиональной подготовки артиста, художника, вообще культурного реципиента.
Но оно не способно заменить собой понимание иного рода, ради которого, собственно, и существует искусство (ведь не для того же, чтобы поставлять материал искусствоведческим анализам!), понимание, основанное на совместной работе чувства и мысли, вызываемых произведением искусства. Между этими типами понимания нет непременного противоречия. Они могут осуществляться совместно и дополнять друг друга. Но противоречие все же может возникнуть, и тогда это симптом вырождения субъекта культуры, утратившего способность к смыслопорождению и гипертрофировавшего в себе объективистски-формальное или иронически-игровое отношение к искусству.
Явление искусства, в том числе, конечно, художественный текст, – целостность, составленная из трех компонентов: авторский замысел, его реализация (произведение), восприятие произведения сознанием реципиента. Смысл, которым наделяется произведение искусства,– результат совместной смыслопорождающей активности автора и реципиента. Эта совместная духовная работа не всегда приводит к совпадению замысла и интерпретации; замысел инициирует явление искусства, но его дальнейшая жизнь – это непрерывно возобновляющийся процесс смыслосотворения.
Особенно это очевидно, когда авторское произведение (замысел) требует исполнителя, скажем, в музыке или в театре. Само исполнение также является произведением искусства; но ведь и в неисполнительском восприятии, даже в нерефлективном переживании произведения происходит тот же процесс осмысления.
В осуществлении этого процесса реализуется потенциал культуры. В этом связь между культурой и художественным текстом: каждый участник совместного смыслотворения актуализирует эту связь, делает ее живой и способной меняться. Как именно произойдет изменение, зависит от уровня культурного развития, от того, насколько индивидуальные участники вовлечены в культурную жизнь. Другими словами, это зависит от того, в какой мере онтологической основой культуры является человеческая личность.
Эта мера не является неизменной, она может расти, но и уменьшаться, даже падать до пренебрежительно малых значений. Последнее знаменует культурные кризисы, которые, помимо прочего, выражаются в измельчении масштабов личностей, сильнее сказать, в их вырождении. Это неизбежно влечет за собой и вырождение искусства. Художественное творчество превращается в игру со смыслами, у которой нет цели, кроме собственного продолжения, заполняющего пустоту внутреннего мира ожиданиями успеха или других жизненных выгод. Его восприятие вовлекает в эту игру участников, которые в лучшем случае воспроизводят ритуалы квазикультурного общения, а в худшем просто пользуются произведениями искусства (в том числе художественными текстами) как средствами заполнения досуга, развлечения, как знаками своей принадлежности к тем или иным социальным группам и т.п. Тогда эти произведения уходят из жизни, впадая в анабиоз и мумифицируясь в саркофагах библиотек, фонотек, театральных репертуаров, музеев или иных хранилищ.
Искусство вообще и художественные тексты в частности не просто втягиваются в культурные кризисы течением исторического времени, но способны и противостоять им. Конечно, это противостояние и собственному вырождению, и гибели. Его исход не предопределен фатально, что бы ни говорили провозвестники “смерти культуры”, “финализации искусства”, “деконструкции личности”. История культуры и искусства не завершена и, будем верить, не завершится никогда.
Искусство – это не только процесс восстановления, возобновления, возрождения смысла художественных произведений, это еще и постоянное творение самой способности понимания – творение понимающего субъекта. Своим произведением художник лишь открывает перспективу творческих актов смыслотворения. В цепи этих актов формируются и трансформируются смыслообразующие способности людей. Когда говорят о шедеврах, вечных ценностях искусства, прежде всего имеют в виду силу их изначального импульса. Но эта сила исчерпалась бы и сошла на нет без того, чтобы поддерживаться и умножаться творчеством понимающих эти шедевры людей. Поэтому понимание произведений искусства по самой своей сути проблематично и изменчиво. Художественный текст, принятый за “разгаданную тайну”, понятый “раз и навсегда”, прекращает свое бытие как явление искусства. Говорят, что шедевры не умирают, ибо они могут возрождаться, воскресать в творчестве иных поколений. Но само воскресение говорит о возможности смерти. Произведение умирает, когда исчерпывается творческий потенциал его понимания, и возрождается с возникновением нового потенциала.
Проблема в том, чтобы соединить “живую жизнь” художественного произведения, невозможную без плюрализма смыслотворческих актов, с требованием конгениальности различных пониманий, без которого снимается заслон перед халтурой, кощунственным надругательством над культурными ценностями, развязными домыслами, бездарным оригинальничаньем. Возможно ли такое соединение?
Художественный текст, как и все искусство, живет, если постоянно развивается, меняется его понимание, если не останавливается процесс со-творения, обновления и восстановления его смысла. И эта жизнь – часть общего культурного потока. Когда поток замутнен, нельзя удивляться тому, что загрязняются, искажаются, получают уродливые или причудливые очертания смыслы явлений искусства. Когда-то Г.В. Плеханов сказал: “Жалкая философия как нельзя лучше соответствует нашему жалкому времени” [Плеханов 1957, 480]. Этот горький афоризм мог бы быть перефразирован и сегодня: жалкое время порождает жалкое понимание искусства.
Но такое ли уж оно жалкое, наше время? Отвечая, не будем притворяться наивными оптимистами. Мы живем в эпоху культурного кризиса, и наша жизнь так или иначе несет на себе его след. Но следует помнить, что новый поток культурного развития способен высоко вознести искусство и уровень его понимания. И делать, что в наших силах, чтобы это произошло.
Порус Владимир Натанович