
Пётр Я́ковлевич Чаада́ев[1] (27 мая [7 июня] 1794, Москва — 14 [26] апреля 1856, там же) — русский философ (по собственной оценке — «христианский философ») и публицист, объявленный правительством сумасшедшим за свои сочинения, в которых резко критиковал действительность русской жизни. Его труды были запрещены к публикации в императорской России.
В 1829—1831 годах создаёт своё главное произведение — «Философические письма». Публикация первого из них в журнале «Телескоп» в 1836 году вызвала резкое недовольство властей из-за выраженного в нём горького негодования по поводу отлучённости России от «всемирного воспитания человеческого рода», «духовного застоя, препятствующего исполнению предначертанной свыше исторической миссии»[2]. Журнал был закрыт, издатель Надеждин сослан, а Чаадаев — объявлен сумасшедшим.//Википедия
ЧААДАЕВ. ПИСЬМА (книга бесплатно)
Поклон!
Ом.
*************************************************
Николай Онуфриевич Лосский
Глава III. Западники
1. П. Я. Чаадаев
В истории русской философии и особенно русской политической мысли яркий контраст представляют два взаимно противоположных направления – славянофильское и западническое. Старания славянофилов были направлены на разработку христианского миропонимания, опирающегося на учения отцов восточной церкви и православие в той самобытной форме, которую ему придал русский народ. Они чрезмерно идеализировали политическое прошлое России и русский национальный характер. Славянофилы высоко ценили самобытные особенности русской культуры и утверждали, что русская политическая и общественная жизнь развивалась и будет развиваться по своему собственному пути, отличному от пути западных народов. По их мнению, Россия призвана оздоровить Западную Европу духом православия и русских общественных идеалов, а также помочь Европе в разрешении ее внутренних и внешних политических проблем в соответствии с христианскими принципами.
Западники, наоборот, были убеждены, что Россия должна учиться у Запада и пройти тот же самый этап развития. Они хотели, чтобы Россия усвоила европейскую науку и плоды векового просвещения. Западники мало интересовались религией. Если среди них и были религиозные люди, то они не видели достоинств православия и имели склонность к преувеличению недостатков русской церкви. Что же касается социальных проблем, то одни из них более всего ценили политическую свободу, а другие являлись сторонниками социализма в той или иной форме.
Некоторые историки русской культуры считают, что эти две противоположные тенденции имеют место и по сей день, правда, под другими названиями и в других формах. Следует отметить, что мировоззрение некоторых западников не отличалось постоянностью. В начале или к концу жизни они значительно отступали от типичных западнических взглядов. В этом отношении ярким примером может служить мыслитель, идеи которого мы рассмотрим в этой главе.
Петр Яковлевич Чаадаев (1794–1856) – сын богатого помещика, учился в Московском университете. Не окончив университет, он добровольно вступил в армию. В 1812 г. Чаадаев принял участие в кампании против Наполеона. Он также участвовал в заграничных походах русской армии» В 1320 г., в бытность офицером гусарского гвардейского полка, Чаадаев был послан на конгресс в Троппау с докладом Александру I о мятеже в Семеновском полку. Через несколько месяцев он вышел в отставку. Противоречивые слухи относительно того, что произошло между Александром I и Чаадаевым в Троппау, и о причине отставки Чаадаева подробно разбираются в книге Quenet «Tchaadaev» (Кене, Чаадаев, 64–72). С 1823 по 1826 г. Чаадаев жил за границей и поэтому не принял участия в восстании декабристов, В Карлсбаде он встречался с Шеллингом и впоследствии с ним переписывался, Находясь во Франции, Чаадаев бывал у Ламенне.
В конце 1829 г. Чаадаев начал работать над трактатом «Философические письма» (на французском языке). Эта работа, состоящая из восьми писем, была закончена в 1831 г. Письма адресуются к некой даме, которая, по-видимому, желала посоветоваться с Чаадаевым о том, как упорядочить свою духовную жизнь. В «Письме первом» Чаадаев советует этой даме тщательно соблюдать все обряды, предписываемые церковью. «Это упражнение в покорности,– пишет он,–…укрепляет дух» (II, 108). Без строгого соблюдения церковных обрядов можно обойтись только тогда, «„.когда человек ощущает в себе верования высшего порядка сравнительно с теми, которые исповедует масса,– верования, возносящие дух к самому источнику всякой достоверности и в то же время нисколько не противоречащие народным верованиям, а, наоборот, их подкрепляющие» (II, 108). Чаадаев рекомендует «размеренный образ жизни», ибо только он соответствует духовному развитию. Он восхваляет Западную Европу, где «…идеи долга, справедливости, права, порядка… родились из самих событий, образовавших там общество… входят необходимым элементом в социальный вклад» и составляют «…больше, чем психологию: – физиологию европейского человека» (II, 114). Здесь Чаадаев, очевидно, имеет в виду дисциплинарное влияние римской католической церкви. По отношению к России Чаадаев был настроен крайне критически. «…мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций ни того, ни другого» (II, 109). «Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих…» (II, 117). «Если бы мы не раскинулись от Берингова пролива до Одера, нас и не заметили бы… И в общем мы жили и продолжаем жить лишь для того, чтобы послужить каким-то важным уроком для отдаленных поколений…» (II, 117).
В 1836 г. журналом «Телескоп» было опубликовано первое «Философическое письмо» (от 1 декабря 1829 г.) Цензор, разрешивший напечатать это письмо, был смещен со своего поста, журнал запрещен, а его редактор профессор Надеждин выслан в Усть-Сысольск, а затем в Вологду, откуда вернулся только в 1838 г. Самого Чаадаева император Николай I объявил сумасшедшим. В течение года Чаадаев был пленником в своем доме под присмотром врачей и полиции. Цензоры получили указание не пропускать в печать какие-либо критические отклики на письмо Чаадаева. Это письмо было напечатано вторично только в 1906 г. в журнале «Вопросы философии и психологии» и в «Собрании сочинений и писем Чаадаева» под редакцией Гершензона. Другие письма Чаадаева были недавно найдены князем Шаховским. Второе, третье, четвертое, пятое и восьмое письма опубликованы в 1935 г. в журнале «Литературное наследство» (XXII–XXIV). Шестое и седьмое письма не опубликованы в печати, очевидно, по той причине, что в них Чаадаев говорит о благотворном влиянии церкви. Фанатические атеисты, стоящие у власти в СССР, рассматривают эти письма как «опиум для народа».
Философское мировоззрение Чаадаева носит ярко выраженный религиозный характер, Чаадаев говорит, что желающие сочетать идеи истины и добра должны «стремиться проникнуться истинами откровения». Однако лучше всего «…целиком положиться на те столь частые случаи, когда мы сильнее всего подпадаем действию религиозного чувства на нашу душу, и нам кажется, что мы лишились лично нам принадлежащей силы и против своей воли влечемся к добру какою-то высшей силой, отрывающей нас от земли и возносящей на небо. И вот тогда именно, в сознании своей немощи, дух наш раскроется с необычайной силой для мыслей о небе, и самые высокие истины сами собой потекут в наше сердце» («Письмо второе», 24).
Две силы являются действенными в нашей жизни. Одна из них находится внутри нас – «несовершенная», а другая стоит вне нас – «совершенная». От этой «совершенной» силы мы получаем «…идеи о добре, долге, добродетели, законе…» («Письмо третье», 31). Они передаются от поколения к поколению благодаря непрерывной преемственности умов, которая составляет одно всеобщее сознание, «Да, сомненья нет, имеется абсолютное единство во всей совокупности существ …это факт огромной важности, и он бросает чрезвычайный свет на великое Все: он создает логику причин и следствий, но он не имеет ничего общего с тем пантеизмом, который исповедует большинство современных философов… («Письмо пятое», 46) …как едина природа, так, по образному выражению Паскаля, и вся последовательная смена людей есть один человек, пребывающий вечно…» («Письмо пятое» 49).
Наше «пагубное я» в какой-то мере разобщает человека с «природой всеобщей». «Время и пространство – вот пределы человеческой жизни, какова она ныне». В результате такого разобщения нам является внешний мир. «Необходимо только иметь в виду, что количеств, собственно говоря, в природе не существует… Действительные количества, т. е. абсолютные единицы, имеются лишь в нашем уме…» («Письмо четвертое», 38).
Прочитав критику чистого разума Канта, Чаадаев зачеркнул название книги и по-немецки написал «Apologete adamitischer Vernunft» («Апология адамовского разума»), Он, очевидно, считал, что Кант изложил учение не о чистом разуме, а о разуме, извращенном грехом.
«Христианское учение рассматривает совокупность всего на основе возможного и необходимого перерождения нашего существа…» Это означает, «…что наша ветхая природа упраздняется и что зарождается в нас новый человек, созданный Христом…» («Письмо третье», 30). «Удивительное понимание жизни, принесенное на землю создателем христианства; дух самоотвержения; отвращение от разделения; страстное влечение к единству: вот что сохраняет христиан чистыми при любых обстоятельствах. Так сохраняется раскрытая свыше идея, а через нее совершается великое действие слияния душ и различных нравственных сил мира в одну душу, в единую силу. Это слияние – все предназначение христианства. Истина едина: Царство Божие, небо на земле, все евангельские обетования – все это не иное что, как прозрение и осуществление соединения всех мыслей человечества в единой мысли; и эта единая мысль есть мысль самого Бога, иначе говоря,–осуществленный нравственный закон» («Письмо седьмое», 62). «Как известно, христианство упрочилось без содействия какой бы то ни было книги… Его божественный разум живет в людях, таких, каковы мы и каков он сам, а вовсе не в составленной церковью книге» («Письмо восьмое»). «И вот почему упорная привязанность со стороны верных преданию к поразительному догмату о действительном присутствии тела Христова в евхаристии и их не знающее пределов поклонение телу спасителя столь достойны уважения». Этот догмат об евхаристии «сохраняется в некоторых умах… нерушимым и чистым… Не для того ли, чтобы когда-нибудь послужить средством единения между разными христианскими учениями?» («Письмо восьмое», 62).
Крепостничество вызывало у Чаадаева особое негодование. Его отношение к монархии выражено в прокламации, которая была написана в 1848 г., во время революции в Европе. Эта прокламация была спрятана в одной из книг в его библиотеке. В прокламации, написанной мнимокрестьянским языком, Чаадаев выражает радость по тому случаю, что народы поднялись против монархов. Прокламация заканчивается словами: «Мы не хотим царя другого, окромя царя небесного» («Литературное наследство», XXII–XXIV, 680).
Отрицательное отношение Чаадаева к России, выраженное так сильно в его первом «Философическом письме», несколько сгладилось под влиянием князя Одоевского и других друзей. В 1837 г. Чаадаев написал «Апологию сумасшедшего», которая после его смерти была опубликована в Париже русским иезуитом князем Гагариным в книге «Oeuvges choisies de P. Tchaadaief» (1862). Чаадаев пришел к выводу, что бесплодность исторического прошлого России является в известном смысле благом. Русский народ, не будучи скованным окаменелыми формами жизни, обладает свободой духа для выполнения великих задач грядущего. Православная церковь сохранила сущность христианства во всей его первоначальной чистоте. Поэтому православие может оживить тело католической церкви, которое слишком сильно механизировано. Призвание России состоит в осуществлении окончательного религиозного синтеза. Россия станет центром интеллектуальной жизни Европы в том случае, если она усвоит все, что есть ценного в Европе, и начнет осуществлять свою Богом предначертанную миссию.
Не следует полагать, что Чаадаев пришел к этому убеждению сразу же в 1836 г., после постигшей его катастрофы. Французская революция 1830 г. сделала его менее склонным к идеализации Запада по сравнению с тем временем, когда он писал свое «Первое письмо».
В сентябре 1831 г. Чаадаев писал Пушкину: «Но человечество ставит перед собой задачу осуществления. Быть может, на первых порах это будет нечто подобное той политической линии, которую в настоящее время проповедует С.-Симон в Париже, или тому католицизму нового рода, который несколько смелых священников пытаются поставить на место прежнего, освященного временем» (II, 180). В 1835 г, в письме к А. И. Тургеневу, за год до выхода в свет «Первого письма, он писал: «…нам нет дела до крутани Запада, ибо сами-то мы не Запад; что Россия, если только она уразумеет свое призвание, должна принять на себя инициативу проведения всех великодушных мыслей, ибо она не имеет привязанностей, страстей, идей и интересов Европы. И почему бы я не имел права сказать и того, что Россия слишком величественна, чтобы проводить национальную политику; что ее дело в мире есть политика рода человеческого; …что император Александр прекрасно понял это и что это составляет лучшую славу его, что провидение создало нас слишком сильными, чтобы быть эгоистами, что оно поставило нас вне интересов национальностей и поручило нам интересы человечества; что все наши мысли в жизни, науке, искусстве должны отправляться от этого и к этому приходить: что в этом наше будущее, в этом наш прогресс… таков будет логический результат нашего долгого одиночества: все великое приходило из пустыни» («Литературное наследство», XXII–XXIV, 16, 17): Эти идеи, близкие к мировоззрению славянофилов, Чаадаев выразил еще до того, как последние развили свое учение30.
2. Н. В. Станкевич
Возникновение «западнического» движения, строго говоря, было связано с деятельностью так называемого кружка Станкевича. Этот кружок был организован в 1831 г., в бытность Станкевича студентом Московского университета. В кружок входили главным образом друзья Станкевича по учебе в университете. У Герцена и Огарева, которые также были западниками, в то время был свой кружок. В кружок Станкевича входили В. Белинский, К. Аксаков, поэт Кольцов, М. Лермонтов, М. Бакунин (с 1835 г.), В. Боткин, Катков, Т. Грановский и Кавелин. Все они занимались главным образом философией, поэзией и музыкой. Члены кружка с энтузиазмом изучали философию Шеллинга, а после 1835 г. увлеклись Гегелем. В поэзии их внимание было сосредоточено на творчестве Гёте», Шиллера, Гофмана и особенно Шекспира, а в музыке – на творчестве Бетховена и Шуберта. Душою кружка был Станкевич, который отличался замечательным умом и покорял своей добротой, учтивостью и простотой манер. Не все члены кружка придерживались западнических взглядов. Сам Станкевич, вероятно, не остался бы искренним западником, если бы не ранняя смерть от чахотки, преждевременно оборвавшая его духовное развитие.
Николай Владимирович Станкевич (1813–1840) был сыном богатого воронежского помещика. Будучи студентом, он жил в Москве в семье профессора Павлова. Этот ученый познакомил Станкевича с философией, природы Шеллинга, а профессор Надеждин – с эстетикой Шеллинга. Для более систематического изучения философии Гегеля Станкевич поехал за границу и в 1838–1839 гг. посещал в Берлине частные лекции профессора Вердера по логике Гегеля. Печатался Станкевич очень мало. О его философских представлениях можно судить только по письмам и воспоминаниям современников. Например. П. В. Анненков опубликовал переписку Станкевича, а также написал его биографию31. В письме к М. Бакунину Станкевич говорит о том, что вся природа является одним единым организмом, эволюционирующим в сторону разума (596). «Жизнь есть любовь. Вечные законы ее и вечное их исполнение – разум и воля. Жизнь беспредельна в пространстве и времени, ибо она есть любовь. С тех пор как началась любовь, должна была начаться жизнь; покуда есть любовь, жизнь не должна уничтожиться, поелику есть любовь, и жизнь не должна знать пределов» (23). Женщину Станкевич считал священным существом. Не напрасно, говорил он, Дева Мария и Божия Матерь суть главные символы нашей религии. В письме к Л. А. Бакуниной, говоря о самообразовании, Станкевич советует ей отказаться от попыток постепенного устранения недостатков в человеке. По его словам, достаточно указать на общую причину этих недостатков – отсутствие любви, Он советует думать о том прекрасном, что есть в мире, а не о том, что несовершенно в нем.
Философия, воссоединяющая то, что она разбила на элементы, становится поэзией. Другими словами, Станкевич считает, что философия раскрывает истину в отношении конкретно существующего бытия. Такое бытие есть живой личный дух. Иначе мы бы рассматривали в качестве конкретных вещей такие, как железные дороги, тогда как в действительности они являются только выражением реального бытия (367). Станкевич писал Грановскому: «Помни, что созерцание необходимо для развития мышления».«Вообще, если трудно становится решить что-нибудь, переставай думать и живи. В сравнениях и выводах будет кой-что истинное, но верно вполне схватишь вещь только из общего живого чувства» (187). Изучение философии Гегеля убедило Станкевича, что концепция космического процесса как процесса развития абсолютной идеи не является абстрактным панлогизмом, т. е. не представляет собой теории диалектического самодвижения безличных абстрактных понятий. Он открыл, что у Гегеля носителем абстрактных понятий становится, в конечном счете, дух как конкретное, живущее существо.
В Германии и в других странах философия Гегеля часто рассматривалась как философия абстрактного панлогизма. То, что Станкевич истолковал философию Гегеля в духе конкретного идеал-реализма, выражает общую тенденцию русской философии к конкретизации. Важно отметить, что одна из лучших работ по философии Гегеля– «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека» – написана русским философом И. А. Ильиным. Этому же вопросу посвящена статья Н. Лосского «Гегель как интуитивист»32. Станкевич не стал гегельянцем. Философия Гегеля, говорит он в письме Бакунину,– «обдает меня холодом» (624). Особенно Станкевич осуждал Гегеля за отрицание принципа бессмертия личности. Несомненно, в процессе своей последующей интеллектуальной эволюции Станкевич разработал бы оригинальную систему христианской философии и не остался бы типичным западником, подобно Белинскому или Герцену.
3. В. Г. Белинский
Виссарион Григорьевич Белинский (1811 –1848) был талантливым литературным критиком. Во время учебы в Московском университете Белинский принадлежал к кружку Станкевича. В этом кружке он познакомился с философией природы Шеллинга. В 1836 г., под влиянием Бакунина, Белинский в течение короткого периода времени увлекался философией Фихте, а затем благодаря Станкевичу и Бакунину стал восторженным гегельянцем и оставался им с 1837 по 1840 г. Как использовал Белинский гегелевскую философию в своих критических статьях, можно видеть, например, из его понимания поэзии, изложенного им в статье «Горе от ума, сочинение А. С. Грибоедова» (1839). В этой статье Белинский писал:
«Поэзия есть истина в форме созерцания; ее создания – воплотившиеся идеи, видимые, созерцаемые идеи. Следовательно, поэзия есть та же философия, то же мышление, потому что имеет то же содержание – абсолютную истину, но только не в форме диалектического развития идеи из самой себя, а в форме непосредственного явления идеи в образе»33.
В 1839 г. Белинский переехал из Москвы в Петербург и начал сотрудничать в журнале Краевского «Отечественные записки». В этом же году он опубликовал в данном журнале три статьи, написанные в духе «примирения с действительностью»,– «Бородинская годовщина», «Менцель, критик Гёте» и «Горе от ума, сочинение А. С. Грибоедова». Эти статьи проникнуты гегелевской идеей о том, что «все действительное разумно, все разумное действительно». Превознося самодержавие, Белинский писал: «,..у нас правительство всегда шло впереди народа, всегда было звездою путеводною к его высокому назначению». Царская власть «всегда таинственно сливалась с волею Провидения – с разумною действительностью»34. «Человек служит царю и отечеству вследствие возвышенного понятия о своих обязанностях к ним, вследствие желания быть орудием истины и блага, вследствие сознания себя, как части общества, своего кровного и духовного родства с ним – это мир действительности»35.
За эти статьи Белинский подвергся ожесточенным нападкам со стороны противников самодержавия. Живя в Петербурге, Белинский понял реакционную сущность режима Николая I. В июне 1841 г. в письме к Боткину он резко высказывается не только о самодержавии, но и о монархии вообще.
«Примирение с действительностью», проходящее яркой чертой через статьи Белинского, написанные в 1839 г., не следует истолковывать как недопонимание теории Гегеля. Только люди с поверхностным знанием философии Гегеля могут вообразить, что Гегель отождествляет «действительность» с каждым эмпирическим фактом. В таком случае следовало бы полагать, что, например, наказание солдат шпицрутенами до смерти, применявшееся при Николае I, «действительно», а следовательно, и «разумно». Однако в сложной философской системе Гегеля не все то, что сейчас существует, можно назвать действительным. Гегель различает три стадии бытия: действительность, явление и видимость (Wirklichkeit, Erscheinung und Schein), т. е. нечто подобное индусской системе майя.
Белинский не знал немецкого языка, но усвоил философию Гегеля от таких знатоков, как Н. Станкевич и М. Бакунин. Отсюда следует, что он разбирался в том, что Гегель понимал под «действительностью». Это видно из следующих слов Белинского: «Разум в сознании и разум в явлении– словом, открывающийся самому себе дух есть действительность-, тогда как все частное, все случайное, все неразумное есть призрачность, как противоположность действительности, как ее отрицание, как кажущееся, а несущее. Человек пьет, ест, одевается – это мир призраков, потому что в этом нисколько не участвует дух его…»36. В этой же статье он пишет: «Общество всегда правее и выше частного человека, и частная индивидуальность только до той степени и действительность, а не призрак, до какой она выражает собою общество»37. Отсюда видно, как мало значения придавал Белинский личности.
Белинский окончательно отверг философию Гегеля лишь тогда, когда пришел к признанию величайшей ценности личности. В письме к Боткину (1841) Белинский писал: «Субъект у него не сам себе цель, но средство для мгновенного выражения общего, а это общее является у него в отношении к субъекту Молохом, ибо, пощеголяв в нем (в субъекте), бросает его, как старые штаны… Благодарю покорно, Егор Федорыч38, кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всем подобающим вашему философскому филистерству уважением, честь имею донести вам, что если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лестницы развития, я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и пр., и пр., иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головою. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братии по крови,– костей от костей моих и плоти от плоти моей. …судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судеб всего мира и здравия китайского императора (т. е. гегелевской Allgemeinheit)»39.
В 1841 г. Белинский познакомился с французским социализмом Сен-Симона и Леру, а к 1848 г. социализм стал для него «идеей идей». «Неистовый Виссарион» (так называли Белинского за пылкий темперамент), предавая забвению свое недавнее беспокойство за «жертвы истории», писал Боткину:
«Я начинаю любить человечество маратовски: чтобы сделать счастливою малейшую часть его, я, кажется, огнем и мечом истребил бы остальную»40.
В 1843–1844 гг. один из друзей Белинского перевел для него «Сущность христианства» Фейербаха. Эта работа произвела на Белинского сильное впечатление. Советские авторы утверждают, что в конце своей жизни Белинский под влиянием Фейербаха усвоил взгляды «антропологического материализма»41.
Однако эти авторы получили указание советского правительства отыскать как можно больше материалистов среди представителей западноевропейской и русской культуры. Поэтому не следует принимать во внимание их утверждения. Они считают материалистом даже такого философа, как Спиноза. Из сочинений Белинского не видно, что он стал материалистом, хотя, правда, в последние годы своей жизни он совершенно перестал ссылаться на сверхчувственные основы мирового бытия. В феврале 1847 г. Белинский писал Боткину: «Метафизику к чорту: это слово означает сверхнатуральное, следовательно, нелепость… Освободить науку от призраков, трансцендентализма и thly» [теологии.– Ред.]42. В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 г.» Белинский пишет: «Психология, не опирающаяся на физиологию, так же не состоятельна, как и физиология, не знающая о существовании анатомии»43. Эти слова о сочетании психической жизни с физиологическим процессом могут быть истолкованы по-разному. Тем не менее они не имеют ничего общего с воззрениями материалистов. Действительно, в той же статье он пишет: «Что составляет в человеке его высшую, его благороднейшую действительность? Конечно, то, что мы называем его духовностию, то есть чувство, разум, воля, в которых выражается его вечная, непреходящая, необходимая сущность… Иначе зачем бы вам было рыдать в отчаянии над трупом любимого вами существа? Ведь с ним не умерло то, что было в нем лучшего, благороднейшего, что назвали вы в нем духовным и нравственным, а умерло только грубо материальное, случайное? …Но что же эта личность, которая дает реальность и чувству, и уму, и воле, и гению и без которой все или фантастическая мечта, или логическая отвлеченность? Я много мог бы наговорить вам об этом, читатели, но предпочитаю лучше откровенно сознаться вам, что чем живее созерцаю внутри себя сущность личности, тем менее умею определить ее словами»44.
Возможно, у многих возникнет вопрос: был ли в конце своей жизни Белинский действительно атеистом. В письме к Гоголю о его книге «Выбранные места из переписки с друзьями» Белинский отзывается о русской православной церкви по большей части с неприязнью и утверждает, что русские «по натуре глубоко атеистический народ». Во Франции, пишет он, «…многие, отложившись от христианства, все еще упорно стоят за какого-то Бога» (15 июля 1847 г.)45. Но шесть месяцев спустя в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года», написанной незадолго до смерти, Белинский отмечал следующее: «Искупитель рода человеческого приходил в мир для всех людей… Он – Сын Бога – человечески любил людей и сострадал им в их нищете, грязи, позоре, разврате, пороках, злодействах… Но божественное слово любви и братства не втуне огласило мир»46.
На протяжении своей краткой, но деятельной жизни Белинский часто менял свои философские взгляды, и каждое изменение глубоко отражалось на его произведениях, как критических, так и публицистических. Однако он ничего не сделал для дальнейшего развития философии как таковой. И я говорил о нем так пространно только потому, что он оказал большое влияние на русскую культуру как замечательный литературный критик, обладавший прекрасным эстетическим вкусом.
Другим западником, оказавшим большое влияние на русскую политическую мысль и революционное движение, был А. И. Герцен.
4. А. И. Герцен
Александр Иванович Герцен (1812–1870) был незаконным сыном богатого русского помещика Яковлева и немецкой девушки Луизы Гааг, увезенной им в Россию из Штутгарта. Мальчиком четырнадцати лет во время коронации Николая I в Москве (после казни декабристов), находясь в толпе «перед алтарем, оскверненным кровавой молитвой» («Былое и думы»), Герцен «клялся отомстить за казненных и обрекал себя на борьбу с этим троном, с этим алтарем, с этими пушками» (там же).
Герцен окончил физико-математическое отделение Московского университета. В бытность студентом он сильно увлекался социализмом Сен-Симона. В 1834 г. Герцен был арестован и выслан на северо-восток России, где его обязали работать в правительственном учреждении. В 1842 г. он вышел в отставку, поселился в Москве и посвятил себя усиленному чтению и литературной работе. В 1847 г. Герцен эмигрировал во Францию. В 1855 г. Герцен начал издавать журнал «Полярная Звезда», затем «Колокол». Влияние Герцена на русскую общественную жизнь было значительным. Тем не менее этот человек не создал ничего оригинального в философии. Философские работы Герцена немногочисленны: очерки «Дилетантизм в науке» (1843), «Письма об изучении природы» (1845–1846) и «Письмо сыну– А. А. Герцену» (о свободе и вере) (1876)47.
Идеология Герцена сформировалась под влиянием социалистических идей Сен-Симона, философских взглядов. Шиллера, естественнонаучных трудов Гёте, а впоследствии философии Гегеля, Фейербаха и Прудона. Герцен не интересовался теоретической стороной философии. Философия интересовала его постольку, поскольку ее можно было применить на практике, в борьбе за свободу и достоинство личности, за осуществление социальной справедливости.
Ленин охарактеризовал идеологию Герцена следующим образом: «Он пошел дальше Гегеля, к материализму, вслед за Фейербахом. …Герцен вплотную подошел к диалектическому материализму и остановился перед – историческим материализмом. Эта «остановка» и вызвала духовный крах Герцена после поражения революции 1848 г.»48. Слова Ленина выражают типичную для большевиков тенденцию рассматривать как материалиста любого автора, признающего наличие тесной связи между психическим и физическим процессами. Однако на самом деле у Герцена можно обнаружить лишь отрицательное отношение к религии, к идее личного Бога и личного бессмертия. Его взгляды нельзя отождествлять с классическим материализмом, согласно которому психические процессы пассивны и всецело зависят от материальных процессов. Имея естественнонаучное образование, Герцен высоко ценил связь между философией и естествознанием. В то же время он утверждал, что природу следует истолковывать не только методом «чувственной достоверности» (I, 96), но и методом «спекулятивной натуры», которым пользовался Гёте в своих работах по естествознанию (116). «Материалисты-метафизики,– говорил он,– совсем не то писали, о чем хотели; они до внутренней стороны своего вопроса и не коснулись, а говорили только о внешнем процессе; его они изображали довольно верно, и никто с ними не спорит; но они думали, что это всё, и ошибались: теория чувственного мышления была своего рода механическая психология, как воззрение Ньютона – механическая космология… Вообще материалисты никак не могли понять объективность разума. …У них бытие и мышление или распадаются, или действуют друг на друга внешним образом»49. Ограниченное рационалистическое мышление ведет к тому, что «материализму надо было последним словом своим принять не робкое и шаткое полупризнание сущности, а полное отречение от нее»50. «Декарт никогда не мог возвыситься до понятия жизни». Он рассматривает тело как машину (I ,246–247).
Герцен признавал существование объективного разума в основе природы и называл положение Гегеля о том, «что все действительное разумно, все разумное действительно» – «великой мыслью» (I, 80). В то же время Герцен боролся с ложным истолкованием этого положения и выступал против тех, кто проповедовал «примирение со всей темной стороной современной жизни, называя все случайное, ежедневное, отжившее, словом, все, что ни встретится на улице, действительным и, следовательно, имеющим право на признание» (I, 80).
Герцен не был материалистом как в юные годы, так и в конце своей жизни. Когда его сын, физиолог, прочитал лекцию, в которой он доказывал, что вся деятельность людей и животных суть рефлексы и что, следовательно, нет места свободной воле, Герцен написал «Письмо сыну – А. А. Герцену». «Все явления исторического мира, все проявления организмов – кучевых, сложных, организмов второго порядка – основываются на физиологии, но идут дальше ее. …Ход развития истории есть не что иное, как постоянная эмансипация человеческой личности от одного рабства вслед за другим, от одной власти вслед за другой вплоть до наибольшего соответствия между разумом и деятельностью,– соответствия, в котором человек и чувствует себя свободным». «Нравственная свобода есть, таким образом, реальность психологическая…»51. Понятие о свободе, развитое в этом письме, является только относительным и, по-видимому, соответствует рамкам детерминизма. Однако детерминистское понимание психологической нравственной свободы не может быть разработано в пределах материалистической системы. Оно предполагает наличие объективного разума в основе природы.
Герцен язвительно критиковал учение славянофилов, поскольку последние идеализировали православие и поддерживали самодержавие. Но после подавления революционного движения 1848 г. Герцен разочаровался в Западной Европе и ее «мелкобуржуазном» духе. В это время он пришел к мысли, что русская деревенская община и артель содержат задатки социализма, который найдет свое осуществление в России скорее, чем в какой-либо другой стране. Деревенская община означала для него крестьянский коммунизм52. Поэтому Герцен пришел к мысли о том, что возможно примирение со славянофилами. В своей статье «Московский панславизм и русский европеизм» (1851) он писал: разве социализм «не принимается ли он славянофилами так же, как нами? Это мост, на котором мы можем подать друг другу руку» (I,348).
Герцен верил в будущее социализма. Однако он никогда не рассматривал социализм как совершенную форму общественных отношений. В 1849 г. он писал: «Социализм разовьется во всех фазах своих до крайних последствий, до нелепостей. Тогда снова вырвется из титанической груди революционного меньшинства крик отрицания, и снова начнется смертная борьба, в которой социализм займет место нынешнего консерватизма и будет побежден грядущею, неизвестною нам революцией»53.
В 1869 г. Герцен написал статью «К старому товарищу» (М. Бакунину). В статье он писал, что не верит в «прежние революционные пути» (II, 310) и советует «постепенность» в общественном развитии. В настоящее время эту статью с большой пользой для себя могли бы прочитать как сторонники насильственных революционных мер, так и консерваторы – все те, кто не видит нужды в социальных реформах, обеспечивающих каждому человеку материальные условия для приличной жизни54.
* * *
См. «Сочинения и письма Чаадаева» в 2 томах, под редакцией Гершензона, 1913–1914; М. Гершензон, П. Я. Чаадаев, Жизнь и мысли, 1908; Charles Quenet, Tchaadaev et les Lettres Philosophigues, Paris, 1931 (Ш a p л ь К и н е, Чаадаев и его «Философские письма», Париж); Е. Moskoff, Tchaadaev (E. М о с к о в, Чаадаев). См. Соч.Чаадаева в Библиотеке «Вехи»
Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография, написанная П. В. Анненковым, М., 1858. Эта книга является источником моей информации о философских воззрениях Станкевича.
«Труды Русского научного института в Белграде», IX, 1933.
В. Г. Белинский. Статьи и рецензии, т. I, Гослитиздат, 1948, стр. 464.
В. Г. Белинский, Собрание сочинений, т. I, 1919, стр. 493–494.
В. Г. Белинский, Статьи и рецензии, т. I, стр. 469.
В. Г. Белинский. Статьи и рецензии, т. I, стр. 469.
Там же, стр. 511
Так в кружке Станкевича называли Гегеля.
В. Г. Белинский. Избранные философские сочинения, т. I, 1948, стр. 572–573.
В. Г. Белинский, Письма, т. II, СПБ, 1914, стр. 247.
М. И о в ч у к, Белинский, его философские и общественные взгляды, Гослитиздат, 1939.
В. Г. Белинский, Избранные философские сочинения, т. II, 1948, стр. 529.
В. Г. Белинский. Статьи и рецензии, т. III, стр. 660.
Там же, стр. 659, 661, 662.
Там же, стр. 710.
В. Г. Белинский. Статьи и рецензии, т. III, стр. 788.
А. И. Герцен, Собрание сочинений, в 22 томах, под редакцией М. Лемке, 1920; А. И. Герцен, Избранные философские произведения, 2 тома, Госполитиздат, 1948. Далее я буду ссылаться на страницы последнего издания.
В. И. Ленин, Соч., т. 18, стр. 10.
А. И. Герцен, Избранные философские произведения, т. I» Госполитиздат, 1948, стр. 278, 279, 280.
Там же, стр. 282.
А. И. Герцен, Избранные философские произведения, т. П. Госполитиздат, 1948, стр. 296, 297, 298.
А. И. Герцен, Избранные философские произведения, т. II. Госкомиздат, 1948, стр. 148.
Там же, стр. 102–103.
См. Г. Шпет, Философское мировоззрение Герцена, М., 1920; R. Gab гу, A. Hertsen essai sur le formation et ledeveloppement de ses idees, Paris, 1928 (P. Габри, А. Герцен, Очерк происхождения и развития его идей).
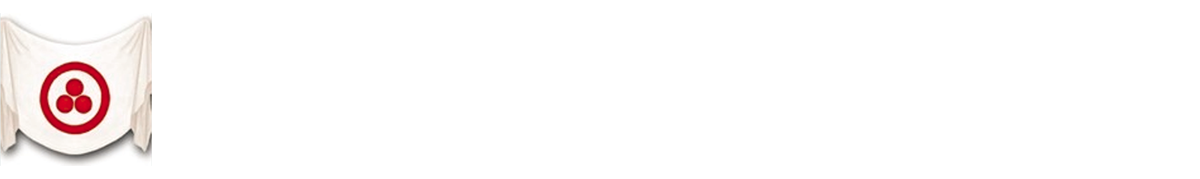


Всех — с Днем рождения великого Чаадаева П.Я.! Аминь
❤
«Чаадаев — одна из самых замечательных фигур русского XIX века. Это был человек большого ума и больших дарований. Но он, подобно русскому народу, недостаточно себя актуализировал, остался в потенциальном состоянии. Он почти ничего не написал. Западничество Чаадаева, его католические симпатии остаются характерно русскими явлениями. У него была тоска по форме, он восстал против русской неоформленности. Он очень русский человек высшего слоя петровского периода русской истории. Он искал Царства Божьего на земле, ожидая новой эпохи Св. Духа, пришел к вере, что Россия скажет новое слово миру». (Н.А. Бердяев)
__________________________________
«…верно подметил Осип Мандельштам: «Чаадаев был первым русским, идейно побывавшим на Западе и нашедшим дорогу обратно». И эту «дорогу обратно» почему-то предпочитают не замечать…». (Кирилл Забелин)
«Грех обособленчества
Чаадаевская интеллектуальная интуиция завязана на антииндивидуалистическом миропонимании.
«В человеческом духе нет никакой истины, кроме той, какую вложил в него Бог» и «вся наша активность есть лишь проявление (в нас) силы, заставляющей стать в порядок общий, в порядок зависимости».
Так, воинствующий индивидуализм, с его точки зрения, — позиция метафизически невежественная, а потому смешная и нелепая. Это лишь порок единичного эмпирического сознания, которое не способно осознать свою сущностную связь с сознанием всеобщим и кичится этой неспособностью, мнит свое уродство — красотой. Только мировое сознание есть настоящий «океан идей». А «пагубное я» — как именует его философ — искусственно «разобщает человека от всего окружающего и затуманивает все предметы».
Отчуждаясь от человечества, человек тем самым отчуждается и от самого себя. Ведь человечество в последовательной смене своих поколений — это и есть один всечеловек. Каждый из нас — «участник работы (высшего) сознания». Отсюда и столь очевидные симпатии к традиционализму, настаивающему на первостепенном значении преемственности для гармоничного развития: «идея становится достоянием всеобщего разума лишь в качестве традиции».
Из антропологии Чаадаева плавно вытекает его историософия. Если человек — абсолютное подлежащее Бога, то «значительная часть (наших мыслей и поступков) определяется чем-то таким, что нам отнюдь не принадлежит; самое хорошее, самое возвышенное, для нас полезное из происходящего в нас, вовсе не нами производится. Все благо, какое мы совершаем, есть прямое следствие присущей нам способности подчиняться неведомой силе».
(Кирилл Забелин)
_____________________________________________
Несомненно, в 19-ом столетии мыслили на порядок сильнее: глубже, выше.
Ныне «воля к безмыслию» одолела не только сознание массы, но и гуманитариев и представителей точной науки. К чему бы это?!…)))
«Вы знаете, что я держусь взгляда, что Россия призвана к необъятному умственному делу: ее задача — дать в свое время разрешение всем вопросам, возбуждающим споры в Европе. Поставленная вне стремительного движения, которое там (в Европе) уносит умы…, она получила в удел задачу дать в свое время разгадку человеческой загадки». (П.Я. Чаадаев)
АМИНЬ!
Всё великое приходило из пустыни
«…Нам нет дела до крутани Запада, ибо сами-то мы не Запад… Россия, если только она уразумеет свое призвание, должна принять на себя инициативу проведения всех великодушных мыслей, ибо она не имеет привязанностей, страстей, идей и интересов Европы. И почему бы я не имел права сказать и того, что Россия слишком величественна, чтобы проводить национальную политику; что ее дело в мире есть политика рода человеческого; …что император Александр прекрасно понял это и что это составляет лучшую славу его, что провидение создало нас слишком сильными, чтобы быть эгоистами, что оно поставило нас вне интересов национальностей и поручило нам интересы человечества; что все наши мысли в жизни, науке, искусстве должны отправляться от этого и к этому приходить: что в этом наше будущее, в этом наш прогресс… таков будет логический результат нашего долгого одиночества: все великое приходило из пустыни». (Петр Чаадаев)