
ЯПОНСКИЕ ТРЕХСТИШИЯ.
Перевод с японского ВЕРЫ МАРКОВОЙ.
Сборник. — М.: «Худож. лит.», 1973
Формат pdf
Японское лирическое стихотворение хокку (хайку) отличается предельной краткостью и своеобразной поэтикой. Народ любит и охотно создает короткие песни — сжатые поэтические формулы, где ни одного лишнего слова. Из народной поэзии эти песни переходят в литературную, продолжают развиваться в ней и дают начало новым поэтическим формам. Так родились в Японии национальные стихотворные формы: пятистишие — танка и трехстишие — хокку. В состав настоящего сборника вошли только хокку позднего средневековья: от Басё до Исса.
Khokku_Yaponskie_tryokhstishya-allsensei
**************************************************
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Royallib.com
Эта же книга в других форматах
Приятного чтения!
ЯПОНСКИЕ ТРЕХСТИШИЯ
«Все растолковать до конца — значит не только погрешить против японской поэзии, но и лишить читателя большой радости самому вырастить цветы из горсти семян, щедро рассыпанных японскими поэтами» (В. Маркова).
ПРЕДИСЛОВИЕ
1
Японское лирическое стихотворение хокку (хайку) отличается предельной краткостью и своеобразной поэтикой.
Народ любит и охотно создает короткие песни — сжатые поэтические формулы, где нет ни одного лишнего слова. Из народной поэзии эти песни переходят в литературную, продолжают развиваться в ней и дают начало новым поэтическим формам.
Так родились в Японии национальные стихотворные формы: пятистишие танка и трехстишие — хокку.
Танка (буквально «короткая песня») была первоначально народной песней и уже в седьмом-восъмом веках, на заре японской истории, становится законодательницей литературной поэзии, оттеснив на задний план, а потом и совершенно вытеснив так называемые длинные стихи «нагаута» (представленные в знаменитой поэтической антологии восьмого века Манъёсю). Эпические и лирические песни разнообразной длины сохранились только в фольклоре. Хокку отделилось от танки много столетий спустя, в эпоху расцвета городской культуры «третьего сословия». Исторически оно является первой строфой танки и получило от нее богатое наследство поэтических образов.
Древняя танка и более молодое хокку имеют многовековую историю, в которой периоды расцвета чередовались с периодами упадка. Не один раз эти формы находились на грани исчезновения, но выдержали испытание временем и продолжают жить и развиваться еще и в наши дни. Такой пример долголетия не является единственным в своем роде. Греческая эпиграмма не исчезла даже после гибели эллинской культуры, а была принята на вооружение римскими поэтами и поныне сохранилась в мировой поэзии. Таджикско-персидский поэт Омар Хайям создал замечательные четверостишия (рубай) еще в одиннадцатом двенадцатом веках, но и в нашу эпоху народные певцы в Таджикистане слагают рубай, вкладывая в них новые идеи и образы.
Очевидно, краткие стихотворные формы — насущная потребность поэзии. Такие стихи можно сочинить быстро, под влиянием непосредственного чувства. Можно афористически, сжато выразить в них свою мысль так, чтобы она запоминалась и переходила из уст в уста. Их легко использовать для похвалы или, наоборот, язвительной насмешки.
Интересно отметить попутно, что стремление к лаконизму, любовь к малым формам вообще присущи японскому национальному искусству, хотя оно великолепно умеет создавать и монументальные образы.
Потеснить танку и на время вырвать у нее первенство смогло только хокку, еще более короткое и лаконичное стихотворение, зародившееся в среде простых горожан, которым были чужды традиции старой поэзии. Именно хокку стало носителем нового идейного содержания и лучше всего сумело откликнуться на запросы растущего «третьего сословия».
Хокку — лирическое стихотворение. Оно изображает жизнь природы и жизнь человека в их слитном, нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года.
Японская поэзия является силлабической, ритмика ее основана на чередовании определенного количества слогов. Рифмы нет, но звуковая и ритмическая организация трехстишия — предмет большой заботы японских поэтов.
Хокку обладает устойчивым метром. В каждом стихе определенное количество слогов: пять в первом, семь во втором и пять в третьем — всего семнадцать слогов. Это не исключает поэтической вольности, особенно у таких смелых поэтов-новаторов, каким был Мацуо Басё[1] (1644–1694). Он иногда не считался с метром, стремясь достигнуть наибольшей поэтической выразительности.
Размеры хокку так малы, что по сравнению с ним европейский сонет кажется монументальным. Оно вмещает в себе считанное количество слов, и тем не менее емкость его относительно велика. Искусство писать хокку — это прежде всего умение сказать многое в немногих словах. Краткость роднит хокку с народными пословицами. Некоторые трехстишия получили хождение в народной речи на правах пословиц, как, например, стихотворение поэта Басё:
Слово скажу
Леденеют губы.
Осенний вихрь!
Как пословица оно означает, что «осторожность иногда заставляет промолчать».
Но чаще всего хокку резко отличается от пословицы по своим жанровым признакам. Это не назидательное изречение, короткая притча или меткая острота, а поэтическая картина, набросанная одним-двумя штрихами. Задача поэта — заразить читателя лирическим волнением, разбудить его воображение, и для этого не обязательно рисовать картину во всех ее деталях.
Чехов писал в одном из своих писем брату Александру: «…у тебя получится лунная ночь, если ты напишешь, что на мельничной плотине яркой звездочкой мелькало стеклышко от разбитой бутылки и покатилась шаром черная тень собаки или волка…»[2]
Такой способ изображения требует от читателя максимальной активности, втягивает его в творческий процесс, дает толчок его мысли. Сборник хокку нельзя «пробегать глазами», листая страницу за страницей. Если читатель будет пассивным и недостаточно внимательным, он не воспримет импульса, посланного ему поэтом. Японская поэтика учитывает встречную работу мысли читателя. Так удар смычка и ответное дрожание струны вместе рождают музыку.
Хокку миниатюрно по своим размерам, но Это не умаляет того поэтического или философского смысла, который может придать ему поэт, не ограничивает масштаб его мысли. Однако дать многостороннее изображение и пространно, до конца развить свою мысль в пределах хокку порт, конечно, не может. В каждом явлении он ищет лишь его кульминационный пункт.
Некоторые поэты, и в первую очередь Исса, поэзия которого наиболее полно отражала народное мировоззрение, любовно изображали малое, слабое, утверждая за ним право на жизнь. Когда Исса заступается за светлячка, муху, лягушку, нетрудно понять, что тем самым он встает на защиту маленького, обездоленного человека, которого мог стереть с лица земли его господин феодал.
Таким образом, стихи поэта наполняются социальным звучанием.
Вот выплыла луна,
И каждый мелкий кустик
На праздник приглашен,
говорит Исса, и мы узнаем в этих словах мечту о равенстве людей.
Отдавая предпочтение малому, хокку иногда рисовало и картину большого масштаба:
Бушует морской простор!
Далеко, до острова Садо,
Стелется Млечный Путь.
Это стихотворение Басё — своего рода смотровая щель. Прильнув к ней глазом, мы увидим большое пространство. Перед нами откроется Японское море в ветреную, но ясную осеннюю ночь: блеск звезд, белые буруны, а вдали, на краю неба, черный силуэт острова Садо.
Или возьмем другое стихотворение Басё:
На высокой насыпи — сосны,
А меж ними вишни сквозят, и дворец
В глубине цветущих деревьев…
В трех строчках — три плана перспективы.
Хокку сродни искусству живописи. Они нередко писались на сюжеты картин и, в свою очередь, вдохновляли художников; подчас они превращались в компонент картины в виде каллиграфически выполненной надписи на ней. Иногда поэты прибегали к способам изображения, родственным искусству живописи. Таково, например, трехстишие Бусона:
Цветы сурепки вокруг.
На западе гаснет солнце.
Луна на востоке встает.
Широкие поля покрыты желтыми цветами сурепки, они кажутся особенно яркими в лучах заката. С огненным шаром заходящего солнца контрастирует восходящая на востоке бледная луна. Поэт не рассказывает нам подробно, какой при этом создается эффект освещения, какие краски на его палитре. Он только предлагает по-новому взглянуть на ту картину, которую каждый видел, может быть, десятки раз… Группировка и выбор живописных деталей — вот в чем основная задача поэта. В колчане у него всего две-три стрелы: ни одна не должна пролететь мимо.
Эта лаконичная манера иногда очень напоминает обобщенный способ изображения, которым пользовались мастера цветной гравюры укиёэ. Разные виды искусства — хокку и цветная гравюра — отмечены чертами общего стиля эпохи городской культуры в Японии семнадцатого — восемнадцатого веков, и это роднит их между собою.
Льет весенний дождь!
По пути беседуют
Зонтик и мино.
Это трехстишие Бусона — жанровая сцена в духе гравюры укиёэ. Двое прохожих беседуют на улице под сеткой весеннего дождя. На одном соломенный плащ — мино, другой прикрывается большим бумажным зонтом. Вот и все! Но в стихотворении чувствуется дыхание весны, в нем есть тонкий юмор, близкий к гротеску.
Часто поэт создает не зрительные, а звуковые образы. Вой ветра, стрекот цикад, крики фазана, пенье соловья и жаворонка, голос кукушки каждый звук исполнен особого смысла, рождает определенные настроения и чувства.
В лесу звучит целый оркестр. Жаворонок ведет мелодию флейты, резкие крики фазана — ударный инструмент.
Жаворонок поет.
Звонким ударом в чаще
Вторит ему фазан.
(Басё)
Японский поэт не развертывает перед читателем всей панорамы возможных представлений и ассоциаций, возникающих в связи с данным предметом или явлением. Он только будит мысль читателя, дает ей определенное направление.
На голой ветке
Ворон сидит одиноко.
Осенний вечер.
(Басё)
Стихотворение похоже на монохромный рисунок тушью. Ничего лишнего, все предельно просто. При помощи нескольких умело выбранных деталей создана картина поздней осени. Чувствуется отсутствие ветра, природа словно замерла в грустной неподвижности. Поэтический образ, казалось бы, чуть намечен, но обладает большой емкостью и, завораживая, уводит за собой. Кажется, что смотришь в воды реки, дно которой очень глубоко. И в то же время он предельно конкретен. Поэт изобразил реальный пейзаж возле своей хижины и через него — свое душевное состояние. Не об одиночестве ворона говорит он, а о своем собственном.
Воображению читателя оставлен большой простор. Вместе с поэтом он может испытать чувство печали, навеянное осенней природой, или разделить с ним тоску, рожденную глубоко личными переживаниями.
Не мудрено, что за века своего существования старинные хокку обросли слоями комментариев. Чем богаче подтекст, тем выше поэтическое мастерство хокку. Оно скорее подсказывает, чем показывает. Намек, подсказ, недоговоренность становятся дополнительными средствами поэтической выразительности. Тоскуя об умершем ребенке, поэт Исса сказал:
Наша жизнь — росинка.
Пусть лишь капелька росы
Наша жизнь — и все же…
Роса — обычная метафора бренности жизни, так же как вспышка молнии, пена на воде или быстро опадающие цветы вишни. Буддизм учит, что жизнь человека кратка и эфемерна, а потому не имеет особой ценности. Но отцу нелегко смириться с потерей любимого ребенка. Исса говорит «и все же…» и кладет кисть. Но само его молчание становится красноречивей слов.
Вполне понятно, что в хокку есть недоговоренность. Стихотворение состоит всего из трех стихов. Каждый стих очень короток в противоположность гекзаметру греческой эпиграммы. Пятисложное слово уже занимает целый стих: например, хототогису — кукушка, киригирису — сверчок. Чаще всего в стихе два значащих слова, не считая формальных элементов и восклицательных частиц. Все лишнее отжимается, отсеивается; не остается ничего, что служит только для украшения. Даже грамматика в хокку особая: грамматических форм немного, и каждая несет на себе предельную нагрузку, иногда совмещая несколько значений. Средства поэтической речи отбираются крайне скупо: хокку избегает эпитета или метафоры, если может без них обойтись.
Иногда все хокку целиком — развернутая метафора, но ее прямое значение обычно скрыто в подтексте.
Из сердцевины пиона
Медленно выползает пчела…
О, с какой неохотой!
Басё сложил это стихотворение, расставаясь с гостеприимным домом своего друга.
Было бы, однако, ошибкой в каждом хокку искать подобный двойной смысл. Чаще всего хокку — конкретное изображение реального мира, не требующее и не допускающее никакого другого толкования.
Поэзия хокку была новаторским искусством. Если с течением времени танка, отдалившись от народных истоков, стала излюбленной формой аристократической поэзии, то хокку стало достоянием простого люда: купцов, ремесленников, крестьян, монахов, нищих… Оно принесло с собой простонародные выражения и жаргонные слова. Оно вводит в поэзию естественные, разговорные интонации.
Местом действия в хокку стали не сады и дворцы аристократической столицы, а бедные улицы города, рисовые поля, большие дороги, лавки, харчевни, постоялые дворы…
«Идеальный», освобожденный от всего грубого пейзаж — так рисовала природу старая классическая поэзия. В хокку поэзия вновь обрела Зрение. Человек в хокку не статичен, он дан в движении: вот уличный разносчик бредет сквозь снежный вихрь, а вот работник вертит мельницу-крупорушку. Та пропасть, которая уже в десятом веке легла между литературной поэзией и народной песней, стала менее широкой. Ворон, долбящий носом улитку на рисовом поле, — образ Этот встречается и в хокку, и в народной песне.
Канонические образы старых танок уже не могли вызвать того непосредственного чувства изумления перед красотой живого мира, которое хотели выразить поэты «третьего сословия». Нужны были новые образы, новые краски. Поэты, так долго опиравшиеся только на одну литературную традицию, обращаются теперь к жизни, к реальному окружающему их миру. Старые парадные декорации убраны. Хокку учит искать скрытую красоту в простом, незаметном, повседневном. Прекрасны не только прославленные, много раз воспетые цветы вишен, но и скромные, незаметные на первый взгляд цветы сурепки, пастушьей сумки, стебелек дикой спаржи…
Внимательно вглядись!
Цветы пастушьей сумки
Увидишь под плетнем.
(Басё)
Хокку учит ценить и скромную красоту простых людей. Вот жанровая картинка, созданная Басё:
Азалии в грубом горшке,
А рядом крошит сухую треску
Женщина в их тени.
Это, наверно, хозяйка или служанка где-нибудь в бедной харчевне. Обстановка самая убогая, но тем ярче, тем неожиданней выделяются красота цветка и красота женщины. В другом стихотворении Басё лицо рыбака на рассвете напоминает цветущий мак, и оба они одинаково хороши. Красота может поражать, как удар молнии:
Едва-едва я добрел,
Измученный, до ночлега…
И вдруг — глициний цветы!
(Басё)
Красота может быть глубоко скрыта. В стихах хокку мы находим новое, социальное переосмысление этой истины — утверждение красоты в незаметном, обыденном, и прежде всего в простом человеке из народа. Именно таков смысл стихотворения поэта Кикаку:
Вишни в весеннем цвету
Не на далеких вершинах гор
Только в долинах у нас.
Верные жизненной правде, поэты не могли не видеть трагических контрастов в феодальной Японии. Они чувствовали разлад между красотой природы и условиями жизни простого человека. Об этом разладе говорит хокку Басё:
Рядом с цветущим вьюнком
Отдыхает в страду молотильщик.
Как он печален, наш мир!
И, как вздох, вырывается у Исса:
Печальный мир!
Даже когда расцветают вишни…
Даже тогда…
В хокку нашли отзвук антифеодальные настроения горожан. Увидев самурая на празднике цветущей вишни, Кёрай говорит:
Как же это, друзья?
Человек глядит на вишни в цвету,
А на поясе длинный меч!
Народный поэт, крестьянин по происхождению, Исса спрашивает детей:
Красная луна!
Кто владеет ею, дети?
Дайте мне ответ!
И детям придется задуматься над тем, что луна на небе, конечно, ничья и в то же время общая, потому что красота ее принадлежит всем людям.
В книге избранных хокку — вся природа Японии, исконный уклад ее жизни, обычаи и верования, труд и праздники японского народа в их самых характерных, живых подробностях.
Вот почему хокку любят, знают наизусть и сочиняют до сих пор.
2
Некоторые особенности хокку можно понять, только познакомившись с его историей.
С течением времени танка (пятистишие) стала четко делиться на две строфы: трехстишие и двустишие. Случалось, что один поэт слагал первую строфу, второй — последующую. Позднее, в двенадцатом веке, появились стихи-цепи, состоящие из чередующихся трехстиший и двустиший. Эта форма получила название «рэнга» (буквально «нанизанные строфы»); первое трехстишие называлось «начальной строфой», по-японски «хокку». Стихотворение рэнга не имело тематического единства, но его мотивы и образы чаще всего были связаны с описанием природы, причем с обязательным указанием на время года.
Рэнга достигла наивысшего расцвета в четырнадцатом веке. Для нее были разработаны точные границы времен года и четко определена сезонность того или иного явления природы. Появились даже стандартные «сезонные слова», которые условно обозначали всегда один и тот же сезон года и в стихотворениях, описывающих иное время года, уже не употреблялись. Довольно было, например, упомянуть слово «дымка», и каждый понимал, что речь идет о туманной поре ранней весны. Число таких сезонных слов достигало трех-четырех тысяч. Так, слова и сочетания слов: цветы сливы, соловей, паутинка, цветы вишен и персиков, жаворонок, бабочка, вскапывание поля мотыгой и другие — указывали на то, что действие происходит весной. Лето обозначалось словами: ливень, кукушка, высадка рисовой рассады, цветущая павлония, пион, прополка риса, жара, прохлада, полуденный отдых, полог от москитов, светлячки и прочие. На осень указывали слова: луна, звезды, роса, крик цикад, уборка урожая, праздник Бон, красные листья клена, цветущий кустарник хаги, хризантемы. Зимние слова — это моросящий дождь, снег, иней, лед, холод, теплая одежда на вате, очаг, жаровня, конец года.
«Долгий день» означал весенний день, потому что он кажется особенно длинным после коротких зимних дней. «Луна» — осеннее слово, потому что осенью воздух особенно прозрачен и луна сияет ярче, чем в другое время года.
Иногда время года для ясности все же называлось: «весенний ветер», «осенний ветер», «летняя луна», «зимнее солнце» и так далее.
Начальная строфа (хокку) часто бывала лучшей строфой в составе рэнги. Начали появляться отдельные сборники образцовых хокку. Эта форма стала новой популярной разновидностью литературной поэзии, унаследовав многие особенности рэнги: строгую приуроченность к определенному времени года и сезонные слова. От шуточной рэнги[3] хокку заимствовало ее широкий словарь, каламбуры, простоту тона. Но долгое время оно не отличалось еще особой идейной глубиной и художественной выразительностью.
Трехстишие прочно утвердилось в японской поэзии и обрело подлинную емкость во второй половине семнадцатого века. На непревзойденную художественную высоту поднял его великий поэт Японии Мацуо Басё, создатель не только поэзии хокку, но и целой эстетической школы японской поэтики. Стихи Басё и ныне, по прошествии трех веков, знает наизусть каждый культурный японец. О них создана огромная исследовательская литература, свидетельствующая о самом пристальном внимании народа к творчеству своего национального поэта.
Басё совершил переворот в поэзии хокку. Он вдохнул в нее жизненную правду, очистив от поверхностного комизма и штукарства шуточной рэнги. Сезонные слова, которые были в рэнге формальным, безжизненным приемом, стали у него поэтическими образами, полными глубокого значения.
Лирика Басё раскрывает перед нами мир его поэтической души, его чувства и переживания, по в стихах его нет камерности и замкнутости. У лирического героя поэзии Басё есть конкретные приметы. Это поэт и философ, влюбленный в природу родной страны, и в то же время — бедняк из предместья большого города. И он неотделим от своей эпохи и народа. В каждом маленьком хокку Басё чувствуется дыхание огромного мира. Это искры большого костра.
Для понимания поэзии Басё необходимо знакомство с его эпохой. Лучший период его творчества приходится на годы Гэнроку (конец семнадцатого столетия). Период Гэнроку считается «золотым веком» японской литературы. В это время Басё создавал свою поэзию, замечательный романист Ихара Сайкаку писал свои повести, а драматург Тикамацу Мондзаэмон — пьесы. Все эти писатели в той или иной мере были выразителями идей и чувств «третьего сословия». Творчество их реалистично, полнокровно и отличается удивительной конкретностью. Они изображают жизнь своего времени в ее красочных подробностях, но не опускаются до бытовщины.
Годы Гэнроку были, в общем, благоприятны для литературного творчества. К этому времени японский феодализм вступил в последнюю фазу своего развития. После кровавых междоусобиц, раздиравших Японию в средние века, наступило относительное умиротворение. Династия Токугава (1603–1868) объединила страну и установила в ней строгий порядок. Отношения между сословиями были точнейшим образом регламентированы. На верхней ступени феодальной лестницы находилось воинское сословие: крупные феодалы — князья и мелкие феодалы — самураи. Торговцы официально были политически бесправны, но на самом деле представляли собой большую силу ввиду роста товарно-денежных отношений, и нередко князья, занимая у ростовщиков деньги, попадали к ним в зависимость. Богатые купцы соперничали в роскоши с феодалами.
Большие торговые города — Эдо (Токио), Осака, Киото стали центрами культуры. Высокого развития достигли ремесла. Изобретение печатания с деревянной доски (ксилография) удешевило книгу, в ней появилось множество иллюстраций, получил распространение и такой демократический вид искусства, как цветная гравюра. Книги и гравюры могли теперь покупать даже небогатые люди.
Политика правительства способствовала росту просвещения. Для молодых самураев было учреждено много школ, в которых главным образом изучались китайская философия, история, литература. Образованные выходцы из воинского сословия пополняли ряды городской интеллигенции. Многие из них поставили свои таланты на службу «третьему сословию». К литературе начали приобщаться и простые люди: купцы, ремесленники, иногда даже крестьяне.
Это была внешняя сторона эпохи. Но была у нее и своя темная изнанка.
«Умиротворение» феодальной Японии было куплено дорогой ценой. В первой половине семнадцатого столетия Япония была «закрыта» для иностранцев, и культурные связи с внешним миром почти прекратились. Крестьянство буквально задыхалось в тисках беспощадного феодального гнета и нередко поднимало рогожные знамена в знак восстания, несмотря на жесточайшие карательные меры со стороны правительства. Была введена система полицейского надзора и сыска, стеснительная для всех сословий.
В «веселых кварталах» больших городов сыпалось дождем серебро и золото, а на проезжих дорогах разбойничали голодные люди; повсюду бродили толпы нищих. Многие родители были вынуждены бросать на произвол судьбы своих маленьких детей, которых они не могли прокормить.
Басё не раз был свидетелем подобных страшных картин. Поэтический арсенал того времени изобиловал множеством условных литературных мотивов. Из китайской классической поэзии пришел мотив осенней грусти, навеянной криком обезьян в лесу. Басё обращается к поэтам, призывая их спуститься с заоблачных высот поэзии и взглянуть в глаза правде жизни:
Грустите вы, слушая крик обезьян.
А знаете ли, как плачет ребенок,
Покинутый на осеннем ветру?
Басё хорошо знал жизнь простых людей Японии. Сын мелкого самурая, учителя каллиграфии, он с детства стал товарищем игр княжеского сына большого любителя поэзии. Басё сам начал писать стихи. После ранней смерти своего молодого господина он ушел в город и принял постриг, освободившись тем самым от службы своему феодалу. Однако Басё не стал настоящим монахом. Он жил в маленьком домике в бедном предместье Фукагава, близ города Эдо. Хижина эта со всем окружающим ее скромным пейзажем — банановыми деревьями и маленьким прудом во дворе — описана в его стихах. У Басё была возлюбленная. Ее памяти он посвятил лаконичную элегию:
О, не думай, что ты из тех,
Кто следа не оставил в мире!
Поминовения день…
Басё шел трудным путем творческих исканий. Его ранние стихи написаны еще в традиционной манере. В поисках нового творческого метода Басё внимательно изучает творчество китайских классических поэтов Ли Бо и Ду Фу, обращается к философии китайского мыслителя Чжуан-цзы и к учению буддийской секты Дзэн, стремясь придать своей поэзии философскую глубину.
В основу созданной им поэтики Басё положил эстетический принцип «саби». Слово это не поддается буквальному переводу. Его первоначальное значение — «печаль одиночества». Саби, как особая концепция красоты, определило собой весь стиль японского искусства в средние века. Красота, согласно этому принципу, должна была выражать сложное содержание в простых, строгих формах, располагавших к созерцанию. Покой, притушенность красок, элегическая грусть, гармония, достигнутая скупыми средствами, — таково искусство саби, звавшее к сосредоточенной созерцательности, к отрешению от повседневной суеты.
Творческий принцип саби не позволял изобразить живую красоту мира во всей ее полноте. Такой большой художник, как Басё, должен был неизбежно это почувствовать. Поиски скрытой сущности каждого отдельного явления становились однообразно утомительными. Кроме того, философская лирика природы, согласно принципу саби, отводила человеку роль только пассивного созерцателя.
В последние годы жизни Басё провозгласил новый ведущий принцип поэтики — «каруми» (легкость). Он сказал своим ученикам: «Отныне я стремлюсь к стихам, которые были бы мелки, как река Сунагава (Песчаная река)».
Слова поэта не следует понимать слишком буквально, скорее в них звучит вызов подражателям, которые, слепо следуя готовым образцам, стали во множестве сочинять стихи с претензией на глубокомыслие. Поздние стихи Басё отнюдь не мелки, они отличаются высокой простотой, потому что говорят о простых человеческих делах и чувствах. Стихи становятся легкими, прозрачными, текучими. В них сквозит тонкий, добрый юмор, теплое сочувствие к людям много видевшего, много испытавшего человека. Великий поэт-гуманист не мог замкнуться в условном мире возвышенной поэзии природы. Вот картинка из крестьянского быта:
Примостился мальчик
На седле, а лошадь ждет.
Собирают редьку.
А вот в городе готовятся к новогоднему празднику:
Обметают копоть.
Для себя на этот раз
Плотник полку ладит.
В подтексте этих стихотворений — сочувственная улыбка, а не насмешка, как это бывало у других поэтов. Басё не разрешает себе никакого гротеска, искажающего образ.
Басё шел по дорогам Японии, как посол самой поэзии, зажигая в людях любовь к ней и приобщая их к подлинному искусству. Он умел найти и пробудить творческий дар даже в профессиональном нищем. Басё проникал иногда в самую глубь гор, где «никто не подберет с земли упавший плод дикого каштана», но, ценя уединение, все же никогда не был отшельником. В странствиях своих он не бежал от людей, а сближался с ними. Длинной чередой проходят в его стихах крестьяне за полевыми работами, погонщики лошадей, рыбаки, сборщицы чайных листьев.
Басё запечатлел их чуткую любовь к красоте. Крестьянин разгибает на миг свою спину, чтобы полюбоваться полной луной или послушать столь любимый в Японии крик кукушки.
Образы природы в поэзии Басё очень часто имеют второй план, иносказательно говоря о человеке и его жизни. Алый стручок перца, зеленая скорлупка каштана осенью, дерево сливы зимою — символы непобедимости человеческого духа. Осьминог в ловушке, спящая цикада на листке, унесенная потоком воды, — в этих образах поэт выразил свое чувство непрочности бытия, свои размышления о трагизме человеческой судьбы.
По мере того как росла слава Басё, к нему стали стекаться ученики всех званий. Басё передавал им свое учение о поэзии. Из его школы вышли такие замечательные поэты, как Бонтё, Кёрай, Кикаку, Дзёсо, усвоившие новый поэтический стиль (стиль Басё).
В 1682 году хижина Басё сгорела во время большого пожара. С этого времени он начал свои многолетние странствия по стране, мысль о которых зародилась у него уже давно. Следуя поэтической традиции Китая и Японии, Басё посещает места, прославленные своей красотой, Знакомится с жизнью японского народа. Поэт оставил несколько лирических путевых дневников.[4] Во время одного из своих путешествий Басё умер. Перед своей кончиной он создал «Предсмертную песню»:
В пути я заболел,
И все бежит, кружит мой сон
По выжженным лугам.
Поэзия Басё отличается возвышенным строем чувств и в то же время удивительной простотой и жизненной правдой. Для него не было низменных вещей. Бедность, тяжелый труд, быт Японии с eo базарами, харчевнями на дорогах и нищими — все это отразилось в его стихах. Но мир для него остается прекрасным.
В любом нищем, может быть, таится мудрец. Поэт смотрит на мир влюбленными глазами, но красота мира предстает перед его взглядом подернутой печалью.
Поэзия была для Басё не игрой, не забавой, не средством пропитания, как для многих современных ему поэтов, но высоким призванием всей его жизни. Он говорил, что поэзия возвышает и облагораживает человека.
Среди учеников Басё были самые разные поэтические индивидуальности.
Кикаку, эдоский горожанин, беспечный гуляка, воспевал улицы и богатые торговые лавки своего родного города:
С треском шелка разрывают
В лавке Этигоя…
Летнее время настало!
К школе Басё принадлежали поэты Бонтё, Дзёсо, обладавшие каждый своим особым творческим почерком, и многие другие. Кёрай из Нагасаки составил вместе с Бонтё знаменитую антологию хокку «Соломенный плащ обезьяны» («Сару-мино»). Она была издана в 1690 году.
В начале восемнадцатого века поэтический жанр хокку пришел в упадок. Новую жизнь в него вдохнул Бусон, замечательный поэт и художник-пейзажист. При жизни поэт был почти неизвестен, стихи его стали популярными лишь в девятнадцатом веке.
Поэзия Бусона романтична. Часто в трех строках стихотворения он умел рассказать целую новеллу. Так, в стихах «Смена одежды с наступлением лета» он пишет:
Скрылись от господского меча…
О, как рады юные супруги
Легким платьем зимнее сменить!
Согласно феодальным порядкам, господин мог покарать своих слуг смертью за «греховную любовь». Но влюбленным удалось бежать. Сезонные слова «смена теплой одежды» хорошо передают радостное чувство освобождения на пороге новой жизни.
В стихах Бусона оживает мир сказок и легенд:
Юным вельможей
Оборотилась лисица…
Весенний ветер.
Туманный вечер весной. Тускло светит луна сквозь дымку, цветут вишни, и в полумгле среди людей появляются сказочные существа. Бусон рисует только контуры картины, но перед читателем встает романтический образ красавца юноши в старинном придворном наряде.
Нередко Бусон воскрешал в поэзии образы старины:
Зал для заморских гостей
Тушью благоухает…
Белые сливы в цвету.
Это хокку уводит нас в глубь истории, в восьмой век. Для приема «заморских гостей» тогда строились особые здания. Можно вообразить поэтический турнир в прекрасном старинном павильоне. Приехавшие из Китая гости пишут благоухающей тушью китайские стихи, а японские поэты соревнуются с ними на своем родном языке. Перед глазами читателя как будто развертывается свиток с древней картиной.
Бусон — поэт широкого диапазона. Он охотно рисует необычное: кита в морской дали, замок на горе, разбойника на повороте большой дороги, но он также умеет тепло нарисовать картинку детского интимного мирка. Вот трехстишие «На празднике кукол»:
Коротконосая кукла…
Верно, в детстве мама ее
Мало за нос тянула!
Но помимо «литературных стихов», богатых реминисценциями, намеками на старину, романтическими образами, Бусон умел самыми простыми средствами создавать стихи изумительной лирической силы:
Они прошли, дни весны,
Когда звучали далекие
Соловьиные голоса.
Исса, наиболее народный и демократичный из всех поэтов феодальной Японии, создавал свои стихи в конце восемнадцатого — начале девятнадцатого века, па заре нового времени. Исса был выходцем из деревни. Большую часть своей жизни он провел среди городской бедноты, но сохранил любовь к родным местам и крестьянскому труду, от которого оп был оторван:
Всем сердцем я чту,
Отдыхая в полдневный жар,
Людей на полях.
В таких словах выразил Исса и свое благоговейное отношение к работе крестьянина, и стыд за свое вынужденное безделье.
Биография Исса трагична. Всю жизнь он боролся с нищетой. Его любимый ребенок умер. Поэт рассказал о своей судьбе в стихах, полных щемящей душевной боли, но в них пробивается также струя народного юмора. Исса был человеком большого сердца: его поэзия говорит о любви к людям, и не только к людям, но и ко всем маленьким существам, беспомощным и обиженным. Наблюдая потешный бой между лягушками, он восклицает:
Эй, не уступай,
Тощая лягушка!
Исса за тебя.
Но по временам поэт умел быть резким и беспощадным: ему претила всякая несправедливость, и он создавал едкие, колючие эпиграммы.
Исса был последним крупным поэтом феодальной Японии. Хокку потеряли свое значение на многие десятилетия. Возрождение этой формы в конце девятнадцатого века относится уже к истории поэзии нового времени. Поэт Масаока Сики (1867–1902), написавший много интересных работ по истории и теории хокку (или по его, ныне принятой в Японии, терминологии — хайку), и его талантливые ученики Такахама Кёси и Кавахигаси Хэкигодо возродили искусство хокку на новой, реалистической основе.
В наши дни популярность трехстиший еще более возросла. Одно время после второй мировой войны в литературе вспыхнул спор по поводу танки и хокку. Некоторые критики считали их второстепенными, отжившими, уже ненужными для народа формами старого искусства. Жизнь доказала несправедливость этих утверждений. Возросшая литературная активность масс после войны сказалась и в том, что все большее число простых людей сочиняет танки и хокку на самые острые, современные темы.
Хокку постоянно печатаются на страницах журналов и газет. Такие стихи — живые отклики на события дня. В них звучит голос японского народа.
В состав настоящего сборника вошли только хокку позднего средневековья: от Басё до Исса.
Перед переводчиком стояли большие трудности. Старинные хокку не всегда понятны без комментариев даже японскому читателю, хорошо знакомому с природой и бытом своей родной страны. Краткость и недоговоренность лежат в самой основе поэтики хокку.
Переводчик стремился сохранять лаконизм хокку и в то же время сделать их понятными. Надо, однако, помнить, что японское трехстишие обязательно требует от читателя работы воображения, участия в творческом труде поэта. В этом главная особенность хокку. Все растолковать до конца — значит не только погрешить против японской поэзии, но и лишить читателя большой радости вырастить цветы из горсти семян, щедро рассыпанных японскими поэтами.
В. Маркова
ТРЕХСТИШИЯ
Японская поэзия основана на чередовании определенного количества слогов. Рифмы нет, но большое внимание уделяется звуковой и ритмической организации стихотворения.
Хокку , или хайку (начальные стихи), — жанр японской поэзии: нерифмованное трехстишие из 17 слогов (5+7+5). Искусство писать хокку — это прежде всего умение сказать многое в немногих словах. Генетически этот жанр связан с танка.
Танка (короткая песня) — древнейший жанр японской поэзии (первые записи — 8-й век). Нерифмованные пятистишия из 31 слога (5+7+5+7+7). Выражает мимолетное настроение, полно недосказанности, отличается поэтическим изяществом, зачастую — сложной ассоциативностью, словесной игрой.
С течением времени танка (пятистишие) стала четко делиться на две строфы: трехстишие и двустишие. Случалось, что один поэт слагал первую строфу, второй — последующую. В двенадцатом веке появились стихи-цепи, состоящие из чередующихся трехстиший и двустиший. Эта форма получила название «рэнга» («нанизанные строфы»); первое трехстишие называлось «начальной строфой», по-японски «хокку». Стихотворение рэнга не имело тематического единства, но его мотивы и образы чаще всего были связаны с описанием природы, причем с обязательным указанием на время года. Начальная строфа (хокку) часто бывала лучшей строфой в составе рэнги. Так стали появляться отдельные сборники образцовых хокку. Трехстишие прочно утвердилось в японской поэзии во второй половине семнадцатого века.
Хокку обладает устойчивым метром. Это не исключает поэтической вольности, например, у Мацуо Басё (1644–1694). Он иногда не считался с метром, стремясь достигнуть наибольшей поэтической выразительности.
БАСЁ[5]
Отцу, потерявшему сына
Поник головой до земли,
Словно весь мир опрокинут вверх дном,
Придавленный снегом бамбук.
Покидая родину
Облачная гряда
Легла меж друзьями… Простились
Перелетные гуси навек.
* * *
Роща на склоне горы.
Как будто гора перехвачена
Поясом для меча.
* * *
Майских дождей пора.
Словно море светится огоньками
Фонари ночных сторожей.
* * *
Иней его укрыл,
Стелет постель ему ветер.
Брошенное дитя.
* * *
Сегодня «травой забвенья»
Хочу я приправить мой рис,
Старый год провожая.
* * *
В небе такая луна,
Словно дерево спилено под корень:
Белеется свежий срез.
* * *
Желтый лист плывет.
У какого берега, цикада,
Вдруг проснешься ты?
* * *
Все выбелил утренний снег.
Одна примета для взора
Стрелки лука в саду.
* * *
Как разлилась река!
Цапля бредет на коротких ножках
По колено в воде.
* * *
Тихая лунная ночь…
Слышно, как в глубине каштана
Ядрышко гложет червяк.
* * *
На голой ветке
Ворон сидит одиноко.
Осенний вечер.
* * *
Во тьме безлунной ночи
Лисица стелется по земле,
Крадется к спелой дыне.
* * *
Кишат в морской траве
Прозрачные мальки… Поймаешь
Растают без следа.[6]
Весной собирают чайный лист
Все листья сорвали сборщицы…
Откуда им знать, что для чайных кустов
Они — словно ветер осени!
В хижине, крытой тростником
Как стонет от ветра банан,
Как падают капли в кадку,
Я слышу всю ночь напролет.
В день высокого прилива[7]
Рукава землею запачканы.
«Ловцы улиток» весь день по полям
Бродят, бродят без роздыха.
Ответ ученику[8]
А я — человек простой!
Только вьюнок расцветает,
Ем свой утренний рис.
* * *
Ива склонилась и спит.
И кажется мне, соловей на ветке
Это ее душа.
* * *
Топ-топ — лошадка моя.
Вижу себя на картине
В просторе летних лугов.
* * *
Далекий зов кукушки
Напрасно прозвучал. Ведь в наши дни
Перевелись поэты.
Стихи в память поэта Сэмпу
К тебе на могилу принес
Не лотоса гордые листья
Пучок полевой травы.
Грущу, одинокий, в хижине, похоронив своего друга — монаха Доккая
Некого больше манить!
Как будто навеки замер,
Не шелохнется ковыль.[9]
В доме Кавано Сёха стояли в надтреснутой вазе стебли цветущей дыни, рядом лежала цитра без струн, капли воды сочились и, падая на цитру, заставляли ее звучать[10]
Стебли цветущей дыни.
Падают, падают капли со звоном…
Или это — «цветы забвенья»?
* * *
В тесной хибарке моей
Озарила все четыре угла
Луна, заглянув в окно.
Недолгий отдых в гостеприимном доме
Здесь я в море брошу наконец
Бурями истрепанную шляпу,
Рваные сандалии мои.
* * *
Послышится вдруг «шорх-шорх».
В душе тоска шевельнется…
Бамбук в морозную ночь.
На чужбине
Тоненький язычок огня,
Застыло масло в светильнике.
Проснешься… Какая грусть!
* * *
Ворон-скиталец, взгляни!
Где гнездо твое старое?
Всюду сливы в цвету.
* * *
Встречный житель гор
Рта не разомкнул. До подбородка
Достает ему трава.
* * *
На луну загляделись.
Наконец-то мы можем вздохнуть!
Мимолетная тучка.
* * *
Как свищет ветер осенний!
Тогда лишь поймете мои стихи,
Когда заночуете в поле.
* * *
И осенью хочется жить
Этой бабочке: пьет торопливо
С хризантемы росу.
* * *
Цветы увяли.
Сыплются, падают семена,
Как будто слезы…
* * *
Порывистый листобой
Спрятался в рощу бамбука
И понемногу утих.
На Новый год
Сколько снегов уже видели,
Но сердцем не изменились они
Ветки сосен зеленые!
* * *
Внимательно вглядись!
Цветы «пастушьей сумки»
Увидишь под плетнем.
Смотрю в окно после болезни
Храма Каннон там, вдалеке,
Черепичная кровля алеет
В облаках вишневых цветов.
* * *
О, проснись, проснись!
Стань товарищем моим.
Спящий мотылек!
Памяти друга
На землю летят,
Возвращаются к старым корням…
Разлука цветов!
* * *
Старый пруд.
Прыгнула в воду лягушка.
Всплеск в тишине.
Другу, уехавшему в западные провинции
Запад, Восток
Всюду одна и та же беда,
Ветер равно холодит.
Хожу кругом пруда
Праздник осенней луны.
Кругом пруда, и опять кругом,
Ночь напролет кругом!
Кувшин для хранения зерна
Вот все, чем богат я!
Легкая, словно жизнь моя,
Тыква-горлянка.
* * *
Этой поросшей травою
Хижине верен остался лишь ты,
Разносчик зимней сурепки.
* * *
Первый снег под утро.
Он едва-едва пригнул
Листики нарцисса.
* * *
Вода так холодна!
Уснуть не может чайка,
Качаясь на волне.
* * *
С треском лопнул кувшин:
Ночью вода в нем замерзла.
Я пробудился вдруг.
* * *
Базар новогодний в городе.
И мне бы его посетить хоть раз!
Купить курительных палочек.
* * *
Луна или утренний снег…
Любуясь прекрасным, я жил, как хотел.
Вот так и кончаю год.
Уезжающему другу
Друг, не забудь
Скрытый незримо в чаще
Сливовый цвет!
* * *
Эй, мальчики-пастухи!
Оставьте же сливе немного веток,
Срезая хлысты.
* * *
Морская капуста легче…
А носит торговец-старик на плече
Корзины тяжелых устриц.
* * *
Облака вишневых цветов!
Звон колокольный доплыл… Из Уэно
Или Асакуса?[11]
* * *
В чашечке цветка
Дремлет шмель. Не тронь его,
Воробей-дружок!
* * *
Аиста гнездо на ветру.
А под ним — за пределами бури
Вишен спокойный цвет.
* * *
Долгий день напролет
Поет — и не напоется
Жаворонок весной.
Другу, который отправляется в путь
Гнездо, покинутое птицей…
Как грустно будет мне глядеть
На опустелый дом соседа.
* * *
Над простором полей
Ничем к земле не привязан
Жаворонок звенит.
* * *
Майские льют дожди.[12]
Где-то лопнул на бочке обод?
Звук неясный ночной…
Овдовевшему другу
Даже белый цветок на плетне
Возле дома, где не стало хозяйки,
Холодом обдал меня.
* * *
Пойдем, друзья, поглядим
На плавучие гнезда уток
В разливе майских дождей!
* * *
Звонко долбит
Столб одинокой хижины
Дятел лесной.
* * *
Нынче выпад ясный день.
Но откуда брызжут капли?
В небе облака клочок.
* * *
Ветку, что ли, обломил
Ветер, пробегая в соснах?
Как прохладен плеск воды!
* * *
Чистый родник!
Вверх побежал по моей ноге
Маленький краб.
* * *
Рядом с цветущим вьюнком
Отдыхает в жару молотильщик.
Как он печален, наш мир!
В опустевшем саду друга
Он дыни здесь растил.
А ныне старый сад заглох…
Вечерний холодок.
* * *
Вот здесь в опьяненье
Уснуть бы на этих речных камнях,
Поросших гвоздикой…
В похвалу поэту Рика
Будто в руки взял
Молнию, когда во мраке
Ты зажег свечу.
* * *
Как быстро летит луна!
На неподвижных ветках
Повисли капли дождя.
* * *
На ночь, хоть на ночь одну,
О кусты цветущие хаги,
Приютите бродячего пса!
* * *
Важно ступает
Цапля по свежему жниву.
Осень в деревне.
* * *
Бросил на миг
Обмолачивать рис крестьянин,
Глядит на луну.
* * *
Вялые листья батата
На высохшем поле. Восхода луны
Ждут не дождутся крестьяне.
* * *
Снова встают с земли,
Тускнея во мгле, хризантемы,
Прибитые сильным дождем.
* * *
Совсем легла на землю,
Но неизбежно зацветет
Больная хризантема.
* * *
Тучи набухли дождем
Только над гребнем предгорья.
Фудзи — белеет в снегу.
На морском побережье
Весь в песке, весь в снегу!
С коня мой спутник свалился,
Захмелев от вина.
* * *
Мыс Иракодзаки.[13]
Голос коршуна… Что в целом мире
На тебя похоже?
* * *
Ростки озимых взошли.
Славный приют для отшельника
Деревня среди полей.
* * *
Молись о счастливых днях!
На зимнее дерево сливы
Будь сердцем своим похож.
Дорожный ночлег
Сосновую хвою жгу.
Сушу на огне полотенце…
Зимняя стужа в пути.
На родине
Хлюпают носами…
Милый сердцу деревенский звук!
Зацветают сливы.
* * *
В чарку с вином,
Ласточки, не уроните
Глины комок.
* * *
Под сенью вишневых цветов
Я, словно старинной драмы герой,
Ночью прилег уснуть.
* * *
Вишни в полном цвету!
А рассвет такой, как всегда,
Там, над дальней горой…
* * *
В мареве майских дождей
Только один не тонет
Мост над рекой Сэта.[14]
Ловля светлячков над рекой Сэта[15]
Еще мелькают в глазах
Горные вишни… И чертят огнем
Вдоль них светлячки над рекой.
* * *
Здесь когда-то замок стоял…
Пусть мне первый расскажет о нем
Бьющий в старом колодце родник.
Осенним вечером
Кажется, что сейчас
Колокол тоже в ответ загудит.
Так цикады звенят.
* * *
Как летом густеет трава!
И только у однолиста
Один-единственный лист.
* * *
Словно хрупкий юноша,
О цветы, забытые в полях,
Вы напрасно вянете.
Смотрю ночью, как проплывают мимо рыбачьи лодки с корморанами[16]
Было весело мне, но потом
Стало что-то грустно… Плывут
На рыбачьих лодках огни.
В похвалу новому дому
Дом на славу удался!
На задворках воробьи
Просо радостно клюют.
* * *
Все вьюнки на одно лицо.
А тыквы-горлянки осенью?
Двух одинаковых нет!
* * *
Осень уже недалеко.
Поле в колосьях и море
Одного, зеленого цвета.
* * *
О нет, готовых
Я для тебя сравнений не найду,
Трехдневный месяц!
* * *
Неподвижно висит
Темная туча в полнеба…
Видно, молнию ждет.
* * *
О, сколько их на полях!
Но каждый цветет по-своему,
В этом высший подвиг цветка!
* * *
Жизнь свою обвил
Вкруг висячего моста
Этот дикий плющ.
На горе «Покинутой старухи»[17]
Мне приснилась давняя быль:
Плачет брошенная в горах старуха,
И только месяц ей друг.
* * *
То другим говорил «прощай!»,
То прощались со мной… А в конце пути
Осень в горах Кисо.[18]
* * *
С ветки скатился каштан.
Тому, кто в дальних горах не бывал,
В подарок его отвезу.
* * *
Только одни стихи!
Вот все, что в «Приют банановый»
Поэту весна принесла.
Другу
Посети меня
В одиночестве моем!
Первый лист упал…
* * *
Кончился в доме рис…
Поставлю в тыкву из-под зерна
«Женской красы» цветок.
* * *
Еще стоят там и тут
Островками колосья несжатые…
Тревожно кричит бекас.
Поэт Рика скорбит о своей жене
Одеяло для одного.
И ледяная, черная
Зимняя ночь… О, печаль!
В день очищения от грехов
Дунул свежий ветерок,
С плеском выскочила рыба…
Омовение в реке.[19]
* * *
Зимние дни в одиночестве.
Снова спиной прислонюсь
К столбу посредине хижины.
Отец тоскует о своем ребенке
Все падают и шипят.
Вот-вот огонь в глубине золы
Погаснет от этих слез.
Письмо на север
Помнишь, как вместе с тобой
Мы на снег глядели?.. И в этом году
Он, должно быть, выпал опять.
* * *
Срезан для крыши камыш.
На позабытые стебли
Сыплется мелкий снежок.
Ранней весною
Вдруг вижу, — от самых плеч
Моего бумажного платья
Паутинки, зыблясь, растут.
Уступаю на лето свой дом
И ты постояльцев
Нашла весной, моя хижина:
Станешь домиком кукол.
* * *
Весна уходит.
Плачут птицы. Глаза у рыб
Полны слезами.
* * *
Солнце заходит.
И паутинки тоже
В сумраке тают…
* * *
Звон вечернего колокола
И то здесь, в глуши, не услышишь.
Весенние сумерки.
На горе «Солнечного света»[20]
О, священный восторг!
На зеленую, на молодую листву
Льется солнечный свет.
* * *
Вот он — мой знак путеводный!
Посреди высоких трав дуговых
Человек с охапкою сена.
* * *
Сад и гора вдали
Дрогнули, движутся, входят
В летний раскрытый дом.
Крестьянская страда
Полоть… Жать…
Только и радости летом
Кукушки крик.
* * *
Погонщик! Веди коня
Вон туда, через поле!
Там кукушка поет.
Возле «Камня смерти»
Ядом дышит скала.[21]
Кругом трава покраснела.
Даже роса в огне.
Ветер на старой заставе Сиракава[22]
Западный ветер? Восточный?
Нет, раньше послушаю, как шумит
Ветер над рисовым полем.
По пути на север слушаю песни крестьян
Вот исток, вот начало
Всего поэтического искусства!
Песня посадки риса.
* * *
Майские дожди
Водопад похоронили
Залили водой.
* * *
Островки… Островки…
И на сотни осколков дробится
Море летнего дня.
На старом поле битвы
Летние травы
Там, где исчезли герои,
Как сновиденье.
* * *
Какое блаженство!
Прохладное поле зеленого риса…
Воды журчанье…
* * *
Тишина кругом.
Проникает в сердце скал
Легкий звон цикад.
* * *
Какая быстрина!
Река Могами[23] собрала
Все майские дожди.
* * *
Трехдневный месяц
Над вершиной «Черное крыло»
Прохладой веет.
* * *
Жар солнечного дня
Река Могами унесла
В морскую глубину.
* * *
«Ворота прилива».
Омывает цаплю по самую грудь
Прохладное море.
* * *
Первая дыня, друзья!
Разделим ее на четыре части?
Разрежем ее на кружки?
* * *
Сушатся мелкие окуньки
На ветках ивы… Какая прохлада!
Рыбачьи хижины на берегу.
* * *
Пестик из дерева.
Был ли он сливой когда-то?
Был ли камелией?
Накануне «Праздника Танабата»[24]
Праздник встречи двух звезд.
Даже ночь накануне так непохожа
На обычную ночь.
* * *
Бушует морской простор!
Далеко, до острова Садо,[25]
Стелется Млечный Путь.
В гостинице
Со мной под одною кровлей
Две девушки… Ветки хаги в цвету
И одинокий месяц.
* * *
Как пахнет зреющий рис!
Я шел через поле, и вдруг
Направо залив Арисо.[26]
Перед могильным холмом рано умершего поэта Иссё
Содрогнись, о холм!
Осенний ветер в поле
Мой одинокий стон.
* * *
Красное-красное солнце
В пустынной дали… Но леденит
Безжалостный ветер осенний.
Местность под названием «Сосенки»
«Сосенки»… Милое имя!
Клонятся к сосенкам на ветру
Кусты и осенние травы.
* * *
Сыплются ягоды с веток…
Шумно вспорхнула стая скворцов.
Утренний ветер.
* * *
Равнина Мусаси[27] вокруг.
Ни одно не коснется облако
Дорожной шляпы твоей.
В осенних полях
Намокший, идет под дождем,
Но песни достоин и этот путник,
Не только хаги в цвету.
Шлем Санэмори[28]
О, беспощадный рок!
Под этим славным шлемом
Теперь сверчок звенит.
* * *
Белее белых скал[29]
На склонах Каменной горы
Осенний этот вихрь!
Расставаясь с другом
Прощальные стихи
На веере хотел я написать,
В руке сломался он.
В бухте Цуруга, где некогда затонул колокол
Где ты, луна, теперь?
Как затонувший колокол,
Скрылась на дне морском.
* * *
Волна на миг отбежала.
Среди маленьких раковин розовеют
Лепестки опавшие хаги.
* * *
Бабочкой никогда
Он уж не станет… Напрасно дрожит
Червяк на осеннем ветру.
Я открыл дверь и увидел на западе гору Ибуки. Ей не надо ни вишневых цветов, ни снега, она хороша, и сама по себе
Такая, как есть!
Не надо ей лунного света…
Ибуки-гора.
На берегу залива Футами, где жил поэт Сайгё
Может, некогда служил
Тушечницей этот камень?
Ямка в нем полна росы.
* * *
Я осенью в доме один.
Что ж, буду ягоды собирать,
Плоды собирать с ветвей.
* * *
Холодный дождь без конца.
Так смотрит продрогшая обезьянка,
Будто просит соломенный плащ.
* * *
До чего же долго
Льется дождь! На голом поле
Жниво почернело.
* * *
Зимняя ночь в саду.
Ниткой тонкой — и месяц в небе,
И цикады чуть слышный звон.
В горной деревне
Монахини рассказ
О прежней службе при дворе…
Кругом глубокий снег.
Играю с детьми в горах
Дети, кто скорей?
Мы догоним шарики
Ледяной крупы.
* * *
Снежный заяц — как живой!
Но одно осталось, дети:
Смастерим ему усы.
* * *
Скажи мне, для чего,
О ворон, в шумный город
Отсюда ты летишь?
* * *
Проталина в снегу,
А в ней — светло-лиловый
Спаржи стебелек.
* * *
Весенние льют дожди.
Как тянется вверх чернобыльник
На этой заглохшей тропе!
* * *
Воробышки над окном
Пищат, а им отзываются
Мыши на чердаке.
* * *
Продавец бонитов идет.
Какому они богачу сегодня
Помогут упиться вином?
* * *
Как нежны молодые листья
Даже здесь, на сорной траве,
У позабытого дома.
* * *
Камелии лепестки…
Может быть, соловей уронил
Шапочку из цветов?
* * *
Дождик весенний…
Уж выпустили по два листка
Семена баклажанов.
* * *
Над старой рекой
Молодыми почками налились
Ивы на берегу.
* * *
Листья плюща…
Отчего-то их дымный пурпур
О былом говорит.
На картину, изображающую человека с чаркой вина в руке
Ни луны, ни цветов.
А он и не ждет их, он пьет,
Одинокий, вино.
Встречаю Новый год в столице
Праздник весны…
Но кто он, прикрытый рогожей
Нищий в толпе?[30]
* * *
Замшелый могильный камень.
Под ним — наяву это или во сне?
Голос шепчет молитвы.
* * *
Все кружится стрекоза…
Никак зацепиться не может
За стебли гибкой травы.
* * *
Ты не думай с презреньем:
«Какие мелкие семена!»
Это ведь красный перец.
* * *
На высокой насыпи — сосны,
А меж ними вишни видны и дворец
В глубине цветущих деревьев…
* * *
Сначала покинул траву…
Потом деревья покинул…
Жаворонка полет.
* * *
Колокол смолк вдалеке,
Но ароматом вечерних цветов
Отзвук его плывет.
* * *
Чуть дрожат паутинки.
Тонкие нити травы сайко
В полумраке трепещут.
* * *
С четырех сторон
Вишен лепестки летят
В озеро Нио.[31]
* * *
Минула весенняя ночь.
Белый рассвет обернулся
Морем вишен в цвету.
* * *
Жаворонок поет.
Звонким ударом в чаще
Вторит ему фазан.
* * *
Роняя лепестки,
Вдруг пролил горсточку воды
Камелии цветок.
* * *
Ручеек чуть заметный.
Проплывают сквозь чащу бамбука
Лепестки камелий.
* * *
Весенний ветер.
Отозвалась на чьи-то голоса
Гора Микаса.[32]
* * *
Вот причуда знатока!
На цветок без аромата
Опустился мотылек.
* * *
Майский дождь бесконечный.
Мальвы куда-то тянутся,
Ищут дорогу солнца.
* * *
Холодный горный источник.
Горсть воды не успел зачерпнуть,
Как зубы уже заломило.
* * *
Падает с листком…
Нет, смотри! На полдороге
Светлячок вспорхнул.
Ночью на реке Сэта
Любуемся светлячками.
Но лодочник ненадежен: он пьян
И лодку уносят волны…
* * *
Как ярко горят светлячки,
Отдыхая на ветках деревьев!
Дорожный ночлег цветов!
* * *
И кто бы мог сказать,
Что жить им так недолго?
Немолчный звон цикад.
* * *
В старом моем домишке
Москиты почти не кусаются.
Вот все угощенье для друга!
* * *
Утренний час
Или вечерний, — вам все равно,
Дыни цветы!
* * *
И цветы и плоды!
Всем сразу богата дыня
В лучшую пору свою.
* * *
Хижина рыбака.
Замешался в груду креветок[33]
Одинокий сверчок.
Один мудрый монах сказал:[34] «Учение секты Дзэн, неверно понятое, наносит душам большие увечья». Я согласился с ним
Стократ благородней тот,
Кто не скажет при блеске молнии:
«Вот она — наша жизнь!»
* * *
Белый волос упал.
Под моим изголовьем
Не смолкает сверчок.
* * *
Больной опустился гусь
На поле холодной ночью.
Сон одинокий в пути.
* * *
Прозрачна осенняя ночь.
Далеко, до Семизвездия,
Разносится стук вальков.
* * *
«Сперва обезьяны халат!»
Просит прачек выбить вальком
Продрогнувший поводырь.
* * *
Пугают их, гонят с полей!
Вспорхнут воробьи и спрячутся
Под защитой чайных кустов.
* * *
Даже дикого кабана
Закружит, унесет с собою
Этот зимний вихрь полевой!
* * *
Уж осени конец,
Но верит в будущие дни
Зеленый мандарин.
К портрету друга
Повернись ко мне!
Я тоскую тоже
Осенью глухой.
* * *
Ем похлебку свою один.
Словно кто-то играет на цитре
Град по застрехе стучит.
В дорожной гостинице
Переносный очаг.
Так, сердце странствий, и для тебя
Нет покоя нигде.
* * *
Холод пробрал в пути.
У птичьего пугала, что ли,
В долг попросить рукава?
* * *
Сушеная эта макрель
И нищий монах, изможденный,
На холоде в зимний день.
* * *
Всю долгую ночь,
Казалось мне, стынет бамбук…
Утро встало в снегу.
* * *
Стебли морской капусты.
Песок заскрипел на зубах…[35]
И вспомнил я, что старею.
* * *
Поздно пришел мандзай[36]
В горную деревушку.
Сливы уже зацвели.
* * *
Откуда кукушки крик?
Сквозь чащу густого бамбука
Сочится лунная ночь.
В деревне
Вконец отощавший кот
Одну ячменную кашу ест…
А еще и любовь!
* * *
Ночь. Бездонная тьма.
Верно, гнездо свое потерял
Стонет где-то кулик.
* * *
Откуда вдруг такая лень?
Едва меня сегодня добудились…
Шумит весенний дождь.
* * *
Печального, меня
Сильнее грустью напои,
Кукушки дальний зов!
* * *
В ладоши звонко хлопнул я.
А там, где эхо прозвучало,
Бледнеет летняя луна.
Нахожу свой детский рисунок
Детством пахнуло…
Старый рисунок я отыскал,
Ростки бамбука.
* * *
Майский докучный дождь.
Обрывки цветной бумаги
На обветшалой стене.
* * *
Что ни день, что ни день
Все желтее колосья.
Жаворонки поют.
* * *
Уединенный дом
В сельской тиши… Даже дятел
В эту дверь не стучит!
* * *
Без конца моросит.
Лишь мальвы сияют, как будто
Над ними безоблачный день.
В ночь полнолуния
Друг мне в подарок прислал
Рису, а я его пригласил
В гости к самой луне.
* * *
Легкий речной ветерок.
Чай хорош! И вино хорошо!
И лунная ночь хороша!
* * *
Глубокою стариной Повеяло…
Сад возле храма
Засыпан палым листом.
Луна шестнадцатой ночи
Так легко-легко
Выплыла — и в облаке
Задумалась луна.
* * *
Отоприте дверь!
Лунный свет впустите
В храм Укимидо![37]
* * *
Стропила моста поросли
«Печаль-травою»[38]… Сегодня она
Прощается с полной луной.
* * *
Кричат перепела.
Должно быть, вечереет.
Глаз ястреба померк.
* * *
Вместе с хозяином дома
Слушаю молча вечерний звон.
Падают листья ивы.
* * *
Белый грибок в лесу.
Какой-то лист незнакомый
К шляпке его прилип.
* * *
Какая грусть!
В маленькой клетке подвешен
Пленный сверчок.[39]
* * *
Варят на ужин лапшу.
Как пылает под котелком огонь
В эту холодную ночь!
* * *
Ночная тишина.
Лишь за картиной на стене
Звенит-звенит сверчок.
* * *
Блестят росинки.
Но есть у них привкус печали,
Не позабудьте!
* * *
Верно, эта цикада
Пеньем вся изошла?
Одна скорлупка осталась.
* * *
Опала листва.
Весь мир одноцветен.
Лишь ветер гудит.
* * *
Посадили деревья в саду.
Тихо, тихо, чтоб их ободрить,
Шепчет осенний дождь.
* * *
Чтоб холодный вихрь
Ароматом напоить, опять раскрылись
Поздней осенью цветы.
Хозяин и гость
Друг на друга нарцисс
И белая ширма бросают
Отблески белизны.
Собрались ночью, чтоб любоваться снегом
Скоро ли свежий снег?
У всех ожиданье на лицах…
Вдруг зимней молнии блеск!
* * *
Скалы среди криптомерий!
Как заострил их зубцы
Зимний холодный ветер!
* * *
Сокол рванулся ввысь.
Но крепко охотник держит его
Сечет ледяная крупа.
* * *
Вновь зеленеют ростки
В осенних полях. Под утро
Иней точно цветы.
* * *
Все засыпал снег.
Одинокая старуха
В хижине лесной.
Вернувшись в Эдо после долгого отсутствия
…Но, на худой конец, хоть вы
Еще под снегом уцелели,
Сухие стебли камыша.
* * *
Соленые морские окуни
Висят, ощеривая зубы.
Как в этой рыбной лавке холодно!
* * *
«Нет покоя от детей!»
Для таких людей, наверно,
И вишневый цвет не мил.
* * *
Есть особая прелесть
В этих, бурей измятых,
Сломанных хризантемах.
Прохожу осенним вечером через старые ворота Расёмон[40] в Киото
Ветка хаги задела меня…
Или демон схватил меня за голову
В тени ворот Расёмон?
Монах Сэнка скорбит о своем отце
Темно-мышиный цвет
Рукавов его рясы
Еще холодней от слез.
* * *
Уродливый ворон
И он прекрасен на первом снегу
В зимнее утро!
Зимняя буря в пути
Словно копоть сметает,
Криптомерий вершины треплет
Налетевшая буря.
Под Новый год
Рыбам и птицам
Не завидую больше… Забуду
Все горести года.
* * *
Влюбленные коты
Умолкли. Смотрит в спальню
Туманная луна.
* * *
Незримая весна!
На обороте зеркала
Узор цветущих слив.
* * *
Всюду поют соловьи.
Там — за бамбуковой рощей,
Тут — перед ивой речной.
В горах Кисо
Покорна зову сердца
Земля Кисо. Пронзили старый снег
Весенние побеги.
* * *
С ветки на ветку
Тихо сбегают капли.
Дождик весенний.
* * *
Через изгородь
Сколько раз перепорхнули
Крылья бабочки!
Посадка риса
Не успела отнять руки,
Как уже ветерок весенний
Поселился в зеленом ростке.
* * *
Все волнения, всю печаль
Твоего смятенного сердца
Гибкой иве отдай.
* * *
Только дохнет ветерок
С ветки на ветку ивы
Бабочка перепорхнет.
* * *
Как завидна их судьба!
К северу от суетного мира[41]
Вишни зацвели в горах.
* * *
Разве вы тоже из тех,
Кто не спит, опьянен цветами,
О мыши на чердаке?
* * *
Дождь в тутовой роще шумит…
На земле едва шевелится
Больной шелковичный червь.
* * *
Еще на острие конька
Над кровлей солнце догорает.
Вечерний веет холодок.
* * *
Плотно закрыла рот
Раковина морская.
Невыносимый зной!
* * *
Хризантемы в полях
Уже говорят: забудьте
Жаркие дни гвоздик!
Переезжаю в новую хижину
Листья бананов
Луна развесила на столбах
В хижине новой.
* * *
При свете новой луны
Земля в полумраке тонет.
Белой гречихи поля.
* * *
В лунном сиянье
Движется к самым воротам
Гребень прилива.
* * *
Слово скажу
Леденеют губы.
Осенний вихрь!
* * *
Ты, как прежде, зеленым
Мог бы остаться… Но нет! Пришла
Пора твоя, алый перец.
* * *
Ладят зимний очаг.
Как постарел знакомый печник!
Побелели пряди волос.
Ученику
Сегодня можешь и ты
Понять, что значит быть стариком!
Осенняя морось, туман…
Зимний день[42]
Крошат на ужин бобы.
Вдруг удары в медную чашку…
Нищий монах, подожди!..
* * *
Пеплом угли подернулись.
На стене колышется тень
Моего собеседника.
* * *
Год за годом все то же:
Обезьяна толпу потешает[43]
В маске обезьяны.
Памяти друга, умершего на чужбине
Ты говорил, что «вернись-трава»
Звучит так печально… Еще печальней
Фиалки на могильном холме.
Провожаю в путь монаха Сэнгина
Журавль улетел.
Исчезло черное платье из перьев[44]
В дымке цветов.
* * *
Дождь набегает за дождем,
И сердце больше не тревожат
Ростки на рисовых полях.
* * *
Кукушка вдаль летит,
А голос долго стелется
За нею по воде.
* * *
Изумятся птицы,
Если эта лютня зазвучит.
Лепестки запляшут…
* * *
Эй, послушайте, дети!
Дневные вьюнки уже расцвели.
Ну-ка, очистим дыню!
Скорблю о том, что в праздник «Встречи двух звезд» льет дождь
И на небе мост унесло!
Две звезды, рекою разлучены,
Одиноко на скалах спят.
Оплакиваю кончину поэта Мацукура Ранрана
Где ты, опора моя?
Мой посох из крепкого тута
Осенний ветер сломал.
Посещаю могилу Ранрана в третий день девятого месяца
Ты тоже видел его,
Этот узкий серп… А теперь он блестит
Над твоим могильным холмом.
Памяти поэта Тодзюна[45]
Погостила и ушла
Светлая луна… Остался
Стол о четырех углах.
* * *
Утренний вьюнок.
Запер я с утра ворота,
Мой последний друг!
* * *
Белых капель росы
Не проливая, колышется
Хаги осенний куст.
* * *
Первый грибок!
Еще, осенние росы,
Он вас не считал.
* * *
Как хризантемы расцвели
У каменщика на дворе
Среди разбросанных камней!
* * *
Петушьи гребешки.
Они еще краснее
С прилетом журавлей.
* * *
А вам и печали нет,
«Птицы сорокалетья»[46] — сороки,
Что старость напомнили мне!
* * *
Убитую утку несет,
Выкрикивая свой товар, продавец…
Праздник Эбисуко.[47]
Похвала угощенью
Как сельдерей хорош
С далеких полей у предгорья,
Подернутых первым ледком!
* * *
Ни одной росинки
Им не уронить…
Лед на хризантемах.
* * *
Рисовой шелухою
Все осыпано: ступки края,
Белые хризантемы…
* * *
Примостился мальчик
На седле, а лошадь ждет.
Собирают редьку.
В старом господском доме
Давно обветшала сосна[48]
На золоченых ширмах.
Зима в четырех стенах.
* * *
Утка прижалась к земле.
Платьем из перьев прикрыла
Голые ноги свои…
Новый мост
Все бегут посмотреть…
Как стучат деревянные подошвы
По морозным доскам моста!
* * *
Едкая редька…
И суровый, мужской
Разговор с самураем.
Перед Новым годом
Обметают копоть.
Для себя на этот раз
Плотник полку ладит.
Увидев выставленную на продажу картину работы Кана Мотонобу[49]
…Кисти самого Мотонобу!
Как печальна судьба хозяев твоих!
Близятся сумерки года.
* * *
О, весенний дождь!
С кровли ручейки бегут
Вдоль осиных гнезд.
* * *
Под раскрытым зонтом
Пробираюсь сквозь ветви.
Ивы в первом пуху.
* * *
С неба своих вершин
Одни лишь речные ивы
Еще проливают дождь.
* * *
Зеленая ива роняет
В мутную тину концы ветвей.
Час вечерний отлива.
* * *
Хотел бы создать я стихи,
С лицом моим старым несхожие,
О, первая вишня в цвету!
* * *
Я к цветущим вишням плыву.
Но застыло весло в руках:
Ивы на берегу!
Поэту, построившему себе новый дом. Надпись на картине моей собственной работы
Не страшны ей росы:
Глубоко пчела укрылась
В лепестках пиона.
* * *
Пригорок у самой дороги.
На смену погасшей радуге
Азалии в свете заката.
* * *
Молния в тьме ночной.
Озера гладь водяная
Искрами вспыхнула вдруг.
* * *
По озеру волны бегут.
Одни о жаре сожалеют
Закатные облака.
* * *
Голос пролетной кукушки,
Отдыхая в тени листвы,
Слушают сборщицы чая.
Прощаясь с друзьями
Уходит земля из-под ног.
За легкий колос хватаюсь.
Разлуки миг наступил.
* * *
Голос летнего соловья!..
В роще молодого бамбука
Он о старости плачет своей.
* * *
На пути в Суруга[50]
Аромат цветущих померанцев,
Запах листьев чая…
* * *
С темного неба гони,
О река могучая Ои,[51]
Майские облака!
* * *
Весь мой век в пути!
Словно вскапывая маленькое поле,
Взад-вперед брожу.
На сельской дороге
Ношу хвороста отвезла
Лошадка в город… Трусит домой,
Бочонок вина на спине.
Ученикам
Не слишком мне подражайте!
Взгляните, что толку в сходстве таком?
Две половинки дыни.
* * *
Какою свежестью веет
От этой дыни в каплях росы,
С налипшей влажной землею!
* * *
Жаркого лета разгар!
Как облака клубятся
На Грозовой горе!
* * *
Образ самой прохлады
Кистью рисует бамбук
В рощах селенья Сага.[52]
* * *
«Прозрачный водопад»…
Упала в светлую волну
Сосновая игла.
Актер танцует в саду[53]
Сквозь прорези в маске
Глаза актера смотрят туда,
Где лотос благоухает.
На сборище поэтов
Осень уже на пороге.
Сердце тянется к сердцу
В хижине тесной.
* * *
Что за славный холодок!
Пятками уперся в стену
И дремлю в разгаре дня.
Глядя, как пляшет актер, вспоминаю картину, на которой нарисован танцующий скелет
Молнии блеск!
Как будто вдруг на его лице
Колыхнулся ковыль.
Посещают семейные могилы
Вся семья побрела на кладбище.
Идут, сединами убеленные,
Опираясь на посохи.
Услышав о кончине монахини Дзютэй[54]
О, не думай, что ты из тех,
Кто цены не имеет в мире!
Поминовения день…
Снова в родном селенье
Как изменились лица!
Я прочел на них старость свою.
Все — словно зимние дыни.
* * *
Старая деревушка.
Ветки усеяны красной хурмой
Возле каждого дома.
* * *
Лунным светом обманут,
Я подумал: вишневый цвет!
Нет, хлопчатника поле.
* * *
Луна над горой.
Туман у подножья.
Дымятся поля.
* * *
Повисло на солнце
Облако… Вкось по нему
Перелетные птицы.
* * *
Не поспела гречиха,
Но потчуют полем в цветах
Гостя в горной деревне.
* * *
Чем же там люди кормятся?
Домик прижался к земле
Под осенними ивами.
* * *
Конец осенним дням.
Уже разводит руки
Каштана скорлупа.
* * *
Только стали сушить
Солому нового сбора… Как рано
В этом году дожди!
* * *
Аромат хризантем…
В капищах древней Нары[55]
Темные статуи будд.
* * *
Осеннюю мглу
Разбила и гонит прочь
Беседа друзей.
* * *
О, этот долгий путь!
Сгущается сумрак осенний,
И — ни души кругом.
* * *
Отчего я так сильно
Этой осенью старость почуял?
Облака и птицы.
В доме поэтессы Сономэ[56]
Нет! Не увидишь здесь
Ни единой пылинки
На белизне хризантем.
* * *
Осени поздней пора.
Я в одиночестве думаю:
«А как живет мой сосед?»
На одре болезни
В пути я занемог.
И все бежит, кружит мой сон
По выжженным полям.
[1] Мацуо — фамилия поэта, Басё — его псевдоним.
[2] А. П. Чехов. Полн. собр. соч. и писем, т. 13. М., ОГИЗ, 1947, с. 215.
[3] Шуточная рэнга — популярная в среде горожан разновидность рэнги; в ней встречались приемы пародии, игра слов, просторечия.
[4] Один из них, наиболее известный, существует в русском переводе: Басё. По тропинкам Севера (лирический дневник XVII века). Перевод с японского, вступительная статья и примечания Н. И. Фельдман. — «Восток», сборник первый, «Литература Китая и Японии». «Academia», 1935, с. 301–342.
[5] Мацуо Басё (Мунэфуса, 1644–1694). — Биографические сведения о нем приводятся в предисловии. Более подробно о жизни и творчестве Басё см. в книге: Басё. Лирика. Перевод с японского Веры Марковой. М., «Художественная литература», 1964.
[6] Прозрачные мальки… Поймаешь — растают без следа — Мальки так прозрачны, что кажутся поэту льдинками: вот-вот растают…
[7] День высокого прилива приходится на третий день третьего месяца по лунному календарю. Картинка сельского быта на морском побережье: в то время как рыбачки собирают морских моллюсков на берегу, крестьяне ищут съедобных улиток на заливных рисовых полях.
[8] Ответ ученику. — Это стихотворение — своего рода отповедь поэту Кикаку. Намекая на известную пословицу «У каждого свой вкус, иной червяк и полынь ест», Кикаку утверждал за поэтом право на исключительность.
[9] Не шелохнется ковыль. — Имеется в виду несколько похожий на него мискант (miscanthus sinesis) — длинный стебель с метелкой.
[10] В доме Кавано Сёха… — Басё, следуя старинному обычаю, нередко предпосылал стихам небольшие вступления, написанные лирической прозой. Здесь приводятся лишь немногие, наиболее интересные из них. Отдельные краткие вступления пояснительного характера принадлежат переводчику. Кавано Сёха был мастером чайной церемонии. Эстетика чайных церемоний была направлена на то, чтобы заставить забыть о «суетном мире».
[11] Звон колокольный доплыл… Из Уэно или Асакуса? — Уэно, Асакуса — разные районы города Эдо (Токио). Цветут вишни, в воздухе стоит дымка, даже звон колокола кажется смутным, приглушенным. Не поймешь, где он прозвучал.
[12] Майские льют дожди. — Пятый месяц по лунному календарю (май июнь) в Японии — время сезонных дождей (самидарэ).
[13] Мыс Иракодзаки — южная оконечность полуострова Ацуми в нынешней префектуре Айти.
[14] Мост над рекой Сэта, длиной около 175 метров, был переброшен через реку в месте ее истока из озера Бива.
[15] Ловля светлячков над рекой Сэта. — Ловля светлячков над рекой — одно из любимых летних увеселений в Японии. Поэт только что любовался вишнями, но еще словно видит их перед собою, и светлячки чертят огнем вдоль этой воображаемой картины.
[16] Смотрю ночью, как проплывают мимо рыбачьи лодки с корморанами. — Ловля рыб с помощью прирученных корморанов происходит ночью при свете факелов. Кормораны (обычно в лодке их двенадцать) ныряют в воду и достают рыбу своему хозяину, который удерживает их при помощи длинных поводков. Чтобы помешать ловчим птицам заглотать рыбу, на шею им надевается кольцо. По окончании охоты кольцо снимается, и кормораны получают свою долю добычи.
[17] На горе «Покинутой старухи». — С этой горы (Обасутэ) в ночь полнолуния открывается красиво освещенный ландшафт. Название ее связано с легендой. В древности один человек, поверив лживым наговорам жены, отнес свою старую тетку, заменившую ему родную мать, на пустынную гору и покинул ее там. Но, увидев, как взошел над горою чистый лик луны, раскаялся в содеянном и поспешил принести старуху обратно домой.
[18] Горы Кисо находятся в нынешней префектуре Нагано. В старину там проходила одна из важнейших дорог Японии, связывавшая центр страны с северными ее областями.
[19] Омовение в реке. — Древний обряд очищения от скверны путем омовения совершался в шестом месяце по лунному календарю, то есть в разгар лета.
[20] Гора «Солнечного света» (Никко), высотой почти в 2500 метров, находится в нынешней префектуре Татиги, возле города Никко. На склонах ее расположены храмы.
[21] Ядом дышит скала. — В префектуре Татиги есть скала, возле которой из земли выходит ядовитый газ, убивая птиц и насекомых. Согласно легенде, в эту скалу обратилась убитая лисица. Поблизости поставлен камень с высеченным па нем стихотворением; традиция приписывает его Басё: «Облака одни // Могут пролететь в небесной вышине // Над тобой, скала».
[22] Застава Сиракава в столице, сооруженная еще в начале V века, служила как бы воротами на север. Порт Ноин (988-1050) посвятил ей знаменитое стихотворение: «Когда покидал я столицу, // Дорожным товарищем моим // Была весенняя дымка. // Но ветер осени свищет теперь // Над заставою Сиракава».
[23] Могами — судоходная река с очень быстрым течением, впадает в Японское море возле гавани Саката.
[24] Праздник встречи двух звезд (по-японски «Танабата»). — В ночь на седьмое число седьмого месяца по лунному календарю, согласно древней легенде, сороки строят мост через Небесную реку (Млечный Путь), чтобы дать возможность встретиться двум влюбленным звездам — Волопасу и Ткачихе (Вега и Алтаир).
[25] …до острова Садо, стелется Млечный Путь. — Остров Садо находится в Японском море. Поэту кажется, что Млечный Путь протянулся к острову, словно мост.
[26] Арисо — старинное название залива в провинции Кага, ныне залив Тояма в одноименной префектуре. Название Арисо встречается в древней японской поэзии и потому богато поэтическими ассоциациями.
[27] Равнина Мусаси сравнительно велика для гористой Японии. На ней расположен город Эдо.
[28] Шлем Санэмори. — Сайто Санэмори — знаменитый воин XII века. В легенде о нем рассказывается, что, будучи уже семидесятилетним старцем, он выкрасил свои волосы в черный цвет, перед тем как идти на битву. В храме Тода города Комацу провинции Кага хранился как реликвия шлем Санэмори, который он надел перед своим последним сражением.
[29] Белее белых скал… — Старая поэтическая традиция в Японии связывает с осенним ветром представление о белом, мертвенном цвете.
[30] Нищий в толпе. — Поэт хочет сказать, что под лохмотьями нищего может скрываться человек необыкновенный.
[31] Озеро Нио (Бива) — самое большое озеро Японии, известное своей красотой.
[32] Гора Микаса находится у города Нара; отражая звуки, она будто бы откликается на голоса прохожих.
[33] Замешался в груду креветок одинокий сверчок. — Рисунок на спине сверчка напоминает узор на панцире креветки, поэтому отличить сверчка среди креветок нелегко.
[34] Один мудрый монах сказал… — Стихотворение направлено против «мыслителей», часто и не к месту повторяющих давно уже не новые слова о быстротечности человеческой жизни. Басё, вероятно, хочет сказать, что «наносит душам увечья» наигранный пессимизм.
[35] Песок заскрипел на зубах… — Это неприятное чувство вызывает у порта еще более неприятные ассоциации.
[36] Мандзай — странствующий певец, исполнявший новогодние песни и пляски.
[37] Храм Укимидо (Плавучий храм) — выстроен на берегу озера Бива таким образом, что кажется, будто он плывет по воде.
[38] Стропила моста поросли «печаль-травою»… — Имеется в виду знаменитый мост над рекой Сэта. «Печаль-трава» — род папоротника (davallia bullata).
[39] В маленькой клетке подвешен пленный сверчок. — В Японии и Китае стрекочущих насекомых (сверчков, цикад) держат в доме в маленьких клетках, как певчих птиц.
[40] Расёмон — название южных городских ворот в городе Киото. Эти ворота, воздвигнутые в начале IX века, были по тому времени значительным архитектурным сооружением, но стояли они в пустынном месте, скоро обветшали, и про них в народе было сложено много страшных легенд. Ворота Расёмон считались прибежищем демонов и разбойников.
[41] К северу от суетного мира… — Отшельники в Японии обычно селились в северных горах.
[42] Зимний день. — В средневековой Японии бродячие монахи просили подаяния, вызывая хозяев из дома ударами в маленький гонг.
[43] Обезьяна толпу потешает… — В Японии существовал обычай во время новогоднего праздника водить по городу обезьяну. Для потехи на нее надевали обезьянью маску. Люди смеялись, не замечая, что и они, нарядившись к празднику, тоже, в сущности, ничуть не изменились.
[44] Исчезло черное платье из перьев… — Согласно древней китайской легенде, отшельники-чародеи могли летать на журавлях.
[45] Тодзюн (умер в 1693 г.) — отец Кикаку, талантливого поэта школы Басё.
[46] «Птицы сорокалетья». — Сорокалетие считается в Японии «первой старостью».
[47] Праздник Эбисуко справлялся двенадцатого числа девятого месяца по лунному календарю в честь Эбису, бога-покровителя торговли. Вид убитой утки печально контрастирует с веселым оживлением на торговых улицах города.
[48] Давно обветшала сосна — то есть стерся рисунок на ширме в обедневшем доме.
[49] Кана Мотонобу (1476–1559) — знаменитый художник, сочетавший в своей живописи традиции японского искусства с китайским классическим стилем Сунской эпохи. Так как в Японии было принято расплачиваться с долгами к Новому году, то появление в лавке картины кисти Кано Мотонобу могло говорить только о разорении какого-то богатого дома.
[50] На пути в Суруга… — Суруга — па-звание старой провинции в центре Японии (ныне префектура Сидзуока), славившейся производством чая. Басё сложил это стихотворение во время своего последнего путешествия в 1694 году.
[51] Oи — река длиной в 120 километров, впадает в залив Суруга. В средневековой Японии запрещалось переправляться через нее на лодке или переходить ее по мосту. Можно было только переходить вброд или пользоваться услугами носильщиков. Это создавало большие трудности для путников, особенно во время дождей.
[52] Сага — пригород Киото, известный своими бамбуковыми рощами.
[53] Актер танцует в саду. — Актеры в старинном японском театре «Но» надевали маски.
[54] Услышав о кончине монахини Дзютэй. — Во время своего последнего путешествия Басё получил грустную весть о смерти монахини Дзютэй (ее прежнее имя неизвестно), которая была подругой его молодости. Она скончалась в шестом месяце 1694 года. В свое время Басё дал приют ей и ее троим детям в своей «Банановой хижине» и заботился о них до самой своей смерти.
[55] В капищах древней Нары… — Город Нара, бывший в VIII веке столицей Японии, славится своими древними храмами.
[56] Сономэ (1664–1726) — талантливая поэтесса, жена врача в городе Осака, принимала поэта у себя в доме незадолго до его смерти.
Далее, читаем здесь: Маркова Вера. Японские трехстишия — royallib.com.doc
Поклон! Оум



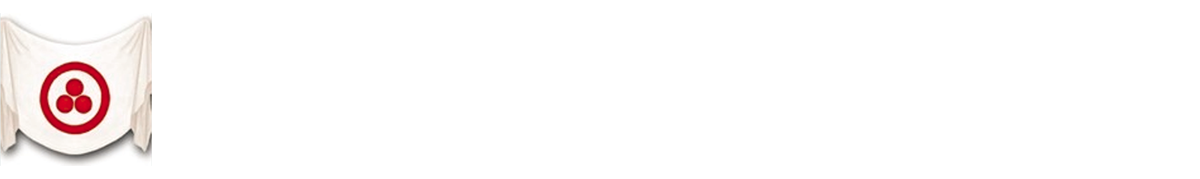
Наслаждайтесь! Это — изумительно.
Всех благ.
_____________________________________________________________
На этот час на сайте ЖЕЗ — 1 190 публикаций, 8 202 комментария по существу. 🙂
ПЕРЕРЫВ — в новых публикациях.
Н.А.Шлемова
(PS …я свой ноосферный Ковчег выстроила. А вы, любезные дачники, свои грядки с картошкой и помидорами в 5D возьмете?!.. :-))
______________________________________________________________
Дополнение:
https://magazines.gorky.media/arion/1998/2/czvety-chuzhogo-sada.html
Юрий Орлицкий
ЦВЕТЫ ЧУЖОГО САДА
(японская стихотворная миниатюра на русской почве)
Сплети мне из русских слов танку.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
О смертный, о русский, напиши мне танку.
В. Хлебников «13 танка»
Началось все на рубеже XIX и XX веков, когда Европа вдруг обратила свой пристальный взгляд на Азию. А точнее — на имеющее многовековые традиции искусство Дальнего Востока — в первую очередь, на живопись, графику и поэзию Китая и Японии. Одна за другой проходили в европейских столицах выставки средневековой японской гравюры и китайских свитков, искусства каллиграфии, костюма, прикладного искусства, в том числе так модных ныне икебаны и бонсаи, выходили переводы и исследования классической поэзии.
Вслед за этим естественно началась и волна подражаний, более или менее точных. А главное — европейские художники и поэты захотели воплотить в своих творениях не только внешнюю экзотику дальневосточной культуры, но и постичь ее философию, такую привлекательную для перепробовавших все эстетов рубежа веков и так не похожую на приевшийся к этому времени европейский рационализм, вжиться в китайское и японское мироощущение, позволяющее творить так же, как его врожденные представители.
Некоторым это удалось вполне: например, художнику Анри Матиссу и композитору Густаву Малеру. Другие скоро оставили свои попытки, объявив — и не без оснований — что дзен-буддистами (а в основе дальневосточной эстетики лежит в большинстве случаев именно это учение восточной мысли) рождаются, а не становятся.
Тем временем волна моды докатилась до России. Началось с того же, что и в Европе — с выставок, покупок восточных коллекций, публикаций переводных книг о дальневосточной культуре и написания собственных. Как это происходило, хорошо описано в книге К.Азадовского и Е.Дьяконовой «Бальмонт и Япония» (М., 1991).
Русские поэты и художники живо восприняли новые веяния и принялись активно скрещивать их с собственными авангардистскими открытиями. Это казалось особенно продуктивным, поскольку Россия всегда была не только «щитом между монголов и Европы», но и посредником в их непрекращающемся культурном обмене, полу-Европой — полу-Азией…
В 1904 году во Владивостоке вышла на русском языке книга известного востоковеда В.Астона «История японской литературы», в которой были впервые представлены широкому читателю переводы хокку (трехстиший) великого японского поэта Мацуо Басё и стихотворения многих его современников. Здесь же были приведены сведения о природе японской поэзии и ее особенностях в сравнении с европейской, давалось представление о периодах истории японской литературы и ее ведущих мастерах. Тогда же, в первые годы нового века, появилось еще несколько книг этнографического и историко-популяризаторского характера, переводных и оригинальных, в которых цитировались японские танка и хокку. Переводы их были выполнены чаще всего с европейских языков, т. е. уже с переводов, и были в большинстве случаев вполне дилетантскими. Но неповторимый колорит японской классической миниатюры они все же передавали, и у нас тотчас же появились их пере-переводчики.
Напомним читателю, что для двух основных (а точнее — получивших в Японии наибольшее распространение, в Европе же единственно известных) малых форм японской классической поэзии — трехстиший хокку (или хайку) и пятистиший танка — конструктивным фактором стиха выступает количество слогов в каждой строке и в стихотворении в целом. В определенном смысле это — аналог силлабического стихосложения (т. е. основанного только на равенстве количества слогов в строчках), как известно, не закрепившегося в русской традиции. Именно поэтому, очевидно, оказались не вполне удачными и попытки первых русских переводчиков строго следовать в этом смысле японским образцам: для русского слуха простая урегулированность строк по количеству слогов не выступает в качестве внятного ритмообразующего признака, и «точные» переводы воспринимались как аморфные, лишенные ритма вообще.
Чувствуя это, поэты-профессионалы, обратившись к заинтересовавшей их своей экзотикой и выразительностью японской миниатюристике — В.Брюсов, А.Белый и К.Бальмонт — на первых порах вносят в свои переводы-подражания японской лирике элементы силлабо-тоники, т. е. пытаются организовать стихи по принципу, наиболее привычному для читателей-современников.
Брюсов включил свои «Японские танки и хай-кай» в книгу 1913 года «Сны человечества»; выполнены они хореем и, в соответствии с японским оригиналом, включают две пятисложные строки (первую и третью) и три — семисложные (если это танка), или две пятисложные и семисложную между ними — если хокку. Танка у Брюсова могут быть нерифмованными или рифмованными:
Устремил я взгляд,
Чуть защелкал соловей,
На вечерний сад;
Там, средь сумрачных ветвей,
Месяц — мертвого бледней.
Интересно, что Брюсов, вероятно, чувствуя эстетическую значимость для японцев самого внешнего вида их каллиграфически начертанных стихотворений, пытается продемонстрировать особую активность этой внешней (в оригинале — иероглифической) формы при помощи простейшего приема, вполне принятого в европейской традиции: нечетные строки печатаются с двойным отступом от левого края, что придает традиционному квадратику строфы слабое подобие причудливого иероглифического начертания…
Другой русский переводчик пошел еще дальше, выделив строки помещенных в его книге миниатюр красным шрифтом. Однако следующие поколения переводчиков и подражателей японской поэзии опустили руки, поняв, что передать особую эстетику иероглифической каллиграфии нам никогда не удастся…
В том же 1913 году пишет свои пятистишия живший тогда на Дальнем Востоке — ближе всех к Японии! — будущий футурист и лефовец Сергей Третьяков. В отличие от брюсовских подражаний, это — оригинальные стихи, причем не хореи, а верлибры. И описывают они предметный мир: «Ножницы», «Восковая свеча», «Первоснег», «Ребенок»…
p Спустя два года появляется большая группа танка совершенно забытого ныне поэта и театрального критика Самуила Вермеля, опубликованных сначала в футуристских альманахах, а затем вышедших отдельным изданием с демонстративно русифицированным названием «Танки». В книгу С.Вермеля вошло несколько десятков пятистиший, внешне достаточно похожих на другие подражания японской классической миниатюре. Однако, заимствуя у японцев классическую композицию слогов, С.Вермель решительно разрушает другие законы танка. В первую очередь — самостоятельность и смысловую и интонационную законченность каждой строки. Вместо этого русский футурист насыщает свои «танки» стиховыми переносами, что предельно актуализирует, по всем правилам свободного стиха, двойную сегментацию текста (т. е. задаваемое авторской волей членение речевого потока на соизмеримые и сопоставляемые друг с другом отрезки — стихи) и создает в нем, в противоположность японским танка, особое напряжение между строками текста, подчеркивая амбивалентную природу стиховой строки, одновременно являющейся и самостоятельной единицей художественного и ритмического целого, и его связанным компонентом. Правда, в художественном отношении большая часть вермелевских «танков» достаточно беспомощна, что и породило немало иронических отзывов о них.
И в дальнейшем поэты-символисты писали, в основном, переводы и переложения японской поэзии, опираясь на силлабо-тонику (А.Белый в 1916 — 1918 гг., К.Бальмонт в 1924-м), а футуристы и близкие к ним поэты-экспериментаторы — оригинальные стихотворения, главным образом — верлибры (Елена Гуро — на протяжении всего творчества, Д.Бурлюк в 1922 г., Ольга Черемшанова — в 1925-м).
При этом А.Белый всегда оставался в своих пятистишиях поэтом, ориентированным на западный рационализм — из всех наблюдений ему непременно нужно было сделать вывод, чаще всего — вполне однозначный, направленный на себя:
ЖИЗНЬ
Над травой мотылек —
Самолетный цветок…
Так и я: в ветер — смерть —
Над собой — стебельком —
Пролечу мотыльком.
Несколько ближе подошел к японской созерцательности поэт-импрессионист К.Бальмонт, оставивший нам серию вольных переводов японских классиков (недаром японский профессор Я.Мойчи, преподававший в начале века в Санкт-Петербургском университете и хорошо знакомый с русским поэтом, назвал свою книгу «Импрессионизм как господствующее направление японской поэзии» (СПб., 1913), пытаясь обозначить тем самым точку возможного соприкосновения восточного и западного мировосприятия). Но и Бальмонт часто не может обойтись без логического вывода и собственного лирического присутствия, абсолютно чуждых восточному созерцателю мира. Вот один из вольных бальмонтовских переводов:
Как волны, что бьются,
Под ветром о скалы,
Один
Я охвачен печалью,
В тоске.
Помимо прочего, в этом переводе интересен прием вольной передачи слоговой природы оригинала: вместо точного счета слогов поэт предлагает противопоставление двух коротких строк трем длинным, причем даже не в тех позициях, что в оригинале. В дальнейшем эта вольность закрепится в русских переводах и подражаниях танка: нечетное количество строк (вместо четного — в большинстве европейских форм) и контраст чередующихся коротких и длинных строк (без счета слогов и обязательного места в тексте) станут внешними признаками русской миниатюры, ориентированной на японскую традицию. При этом танка надолго останется более привлекательным образцом для подражания: три строки для традиционного логистичного европейского сознания все-таки слишком мало!
Важной вехой в освоении японской поэтической традиции стал цикл Александра Глобы, знаменательно озаглавленный «Цветы чужого сада (Из японских поэтов)», который был напечатан сначала в «Красной нови» (1923, № 37), а затем вошел в книгу «Корабли издалека», составленную из вольных стилизаций поэзии разных веков и народов. В отличие от многих предшественников, Глобе вполне даются и хокку, и дзенский созерцательный лаконизм, не нуждающийся в присутствии автора:
О Фудзияма, Венок из лунных лилий Твоя вершина.
Таким образом, мы видим, что и хокку, и танка с самого начала их новой жизни в «чужом саду» русской поэзии тяготели к разного рода «вольностям»: от рифмы русские переводчики японских миниатюр отказываются почти сразу; ориентируясь на японские оригиналы, обращаются к разностопному стиху; затем постепенно начинают отходить и от регулярной силлабо-тонической метрики, закономерно двигаясь к свободному стиху как к форме, точнее всего передающей прихотливо-изменчивую (для нашего европейского слуха, по крайней мере) ритмику оригинала.
Еще быстрее находят путь к верлибру вольные подражания не каким-то конкретным японским образцам, а японской поэзии вообще. Таковы в первые десятилетия века опыты Михаила Кузмина, Ольги Черемшановой, Николая Захарова-Мэнского, несколько позднее — Давида Бурлюка, Сергея Третьякова, Андрея Глобы, Григория Петникова. Эти поэты пробуют воспроизвести не столько ритмическое строение японских миниатюр, сколько свойственный им образный строй и специфический механизм завершения текста, оставаясь при этом в рамках трех- и пятистишных миниатюр.
Вот пара примеров — пятистрочный верлибр Елены Гуро:
https://magazines.gorky.media/arion/1998/2/czvety-chuzhogo-sada.html
О замечательной Вере Марковой, поэтессе, переводчице, выдающейся японистке, читайте:
https://foma.ru/vera-markova-neobratimost-rechi.html
Вера Николаевна Маркова (1907—1995) – русская поэтесса и переводчица, филолог, исследователь японской классической литературы. Родилась в Минске в семье железнодорожного инженера. Окончила японское отделение восточного факультета Ленинградского университета. В советской японистике создала уникальные подражания японской поэтической миниатюре (хокку, танка, вакка и др.) — афористичные верлибры, переходящие в белые стихи. Переводческую деятельность начала в 1950-е годы. В 1954 г опубликовала сборник «Японская поэзия». В 1981г. издала книгу переводов стихов американской поэтессы Эмили Дикинсон (1830—1886). Это была первая отдельная книга Дикинсон на русском языке. В 1993 году на собственные средства поэтессы был издан сборник стихов «Луна восходит дважды». Японское правительство высоко оценило труд Веры Николаевны Марковой по популяризации японской культуры в России, наградив её орденом Орденом Священного сокровища в 1993 году.
_______________________________________________________________
Мы с вами знаем, что поэзия принципиально непереводима. Ведь перевод — это новый текст о тексте. Это новый «русский Басё» и тд.
Тонкого минимализма и изящества — в наши дни! 🙂
о Вере Марковой
В.Н. Маркова
(1907-1995)
Из воспоминаний Т.П. Григорьевой о В.Н. Марковой. (http://www.forum.orientalica.com/index.php?showtopic=312)
Поистине, «Ни с чем не сравнимое наслаждение получаешь, когда в одиночестве, открыв при свете лампады книгу, приглашаешь в друзья людей невидимого мира». Тем более, если этот друг твой Учитель, родная душа. А слова эти принадлежат поэту-монаху Кэнко-хоси (IV в.), автору знаменитых «Записок от скуки», второй по известности книге дзуйхицу (чисто японский жанр, буквально, «следовать кисти», не навязывая ничего от себя). Первые же дзуйхиуц – «Записки у изголовья» – написала Сэй Сёнагон (Х в.). Кто их не знает! Уж сколько раз переиздавали, а все мало. Отчего же «Записки у изголовья», описывающие жизнь придворной аристократии тысячелетней давности, так пленяют нас? Не оттого ли, что к ним прикоснулась рука мастера, Веры Марковой?
Чтобы сделать явление иной культуры явлением собственной, сколько нужно вложить труда и вдохновения! Но и этого мало. Нужно еще иметь дар перевоплощения, — возлюбить другого больше, чем себя… Важно как ты делаешь, отдаешь ли себя целиком: будто делаешь в последний раз, самозабвенно, будто молишься. Что говорить, такое отношение к труду ныне большая редкость… Но так работала Вера Марковна. Естественно появлялись, сами по себе выстраивались слова. Она вроде и не хозяйка слов, не погоняет их, но они ей послушны. Поэтому не похожа речь Марковой на другие, на те, что похожи друг на друга. Талант прост и непритязателен, бесподобен, иначе не талант.
От того-то их так мало на памяти – мастеров перевода (слово «переводчик» не ложится, тяжелое, как «перевозчик», другое бы нужно – «вестник» или что-то еще), Вера Маркова – одна из них. Что ни возьми, а она переводила не только стихи, но и прозу, и драму, — забываешь, что это перевод, будто читаешь сам оригинал… Это возможно в том случае, когда сердце мастера приходит в созвучие с сердцем того, чьей душе он внимает. Здесь нужен именно дар перевоплощения; стать на время одной из умнейших женщин знаменитой своими шедеврами эпохи Хэйан (IX-XI вв.). Так же, чтобы перевести хайку Басё, надо стать на какое-то время странствующим поэтом, войти в его душу, проникнуться его просветленной печалью (саби).
Многие до Веры Марковой пытались переводить хайку, но не многие преуспели в этом, не могли донести то, что отличает именно японскую поэзию. Задача – передать именно внутренний ритм, душу хайку через увиденный образ. Это впервые удалось сделать Марковой. Хайку – повод для встречи мига с вечностью. Они даже не пишутся, а возникают, появляются неожиданно, как раскрывается цветок, и никто ему не указ. В момент мгновенной вспышки рождаются хайку, и потому к ним не возвращается перо, чтобы что-то изменить.
Во время войны Московский институт востоковедения эвакуировался в Фергану, и моя мама, Александра Петровна Орлова, — педагог Божьей милости, с четырьмя детьми, мал мала меньше, А.Е.Глускина с двумя очаровательными детьми, Женей и Олегом, Н.И.Конрад оказались тогда в Фергане. Вера Маркова, не имея своей семьи, любила приходить в наш многодетный дом… Мы усаживались у ее теплых колен, как у очага, и слушали, замерев, ее нескончаемые истории, которые она, судя по всему, тут же сочиняла… Она была мастером импровизации; нить тянулась, сплетая сюжеты, прежде нам незнакомые, и дух захватывало… Еще долгое время я продолжала жить в мире ее сказок. Вера Маркова была для меня тогда просто желанным гостем, нашим семейным другом и всеобщей любимицей. Так было, пока по зову сердца, или желая угодить родителям, я не оказалась в Институте востоковедения, на японской кафедре, где слушала ее лекции о японской литературе. Но ее призвание было в другом, не в педагогике – в полете свободной мысли, что ли, в общении с высшими духами. Так что вскоре Вера Маркова отказалась от преподавания и работала дома. Тогда и появились настоящие ученики, и их совсем немного, 3-4 человека. Любила она нас, как родных, старалась как можно больше отдать, а знала она, кажется, все…
Я писала когда-то, поздравляя Анну Евгеньевну Глускину с орденом «Благодатного Сокровища», вручаемого от имени японского императора (вскоре наградили и Веру Маркову): «Три женщины привили мне любовь к Японии. Мама, … Вера Маркова и Анна Глускина…». И если мама привила мне любовь к японскому языку, то Вера Маркова – к литературе, культуре Японии, которую не отделяла от мировой. Может быть, потому и нашла золотой ключик к японской душе, что принадлежала к всемирному братству поэтов. Достаточно вспомнить среду, где обучалась она японскому: Конрад, Невский, Крачковский, Алексеев – гордость русской науки… Она с душевным трепетом вспоминала своих учителей и любила рассказывать о них.
После войны Вера Маркова жила в убогой, полуподвальной комнатушке, в Рахманиновском переулке, где ютилась среди книг. Небольшой стол, пара стульев – все ее богатство. Обычная участь русской интеллигенции в те годы. Так год за годом жила Вера Маркова, не замечая неудобств, пока судьба не свела ее с семьей Л.Е.Фейнберга, прекрасного живописца. На пятом десятке жизни она обрела, наконец, семью и насладилась простым человеческим счастьем. Они, действительно, жили душа в душу. Оба были настолько внутренне богаты, что невозможно было пресытиться. Суждение одного превыше суждения многих. Достаточно было одобрения одного из супругов, будь это перевод или собственные стихи, чтобы понять – лучше уже не скажешь. Оттого так горек был уход. Как сердце выдержало? Не от ощущения ли того, что эта разлука временна…?
Мало кто знал, что давно уже Вера Маркова пишет стихи и, как повелось тогда, складывает в стол. Только в последние года не могла молчать: стихи сами наплывали, и она лишь успевала записывать. Одна сшитая тетрадь – «Госпожа пустыня», другая – «Ночной дозор», третья, четвертая… Когда в последние годы навещала ее, слабеющую телом, но не слабеющую духом, ей не терпелось почитать новые стихи. А я только этого и ждала. Она вещала, стихи рождались разные: пророческие, исповедальные, о Судном дне, о древе познания, о Совести как спасении, о покаянии. И все это сошлось в одном сборнике «Луна восходит дважды» слава Богу, вовремя увидевшем свет (он вышел в «Современнике» в 1992 году). Что же позволило ей выстоять, не сломиться, не потерять себя?… Можно ответить одним словом: характер или призвание, что в сущности, одно и то же…
В последние годы Вера Маркова не выходила, отказывали ноги, но Бог ей даровал мир, куда богаче, чем за окном, и наложил завет: передать другим об увиденном, пережитом, и о чем-то еще, пусть неясном, но извечном… Стихи последних лет – плод мистического озарения, и потому достоверны. Не потому ли ей пришлась по душе Эмили Дикинсон, американская поэтесса прошлого века, до сих пор неразгаданная ни переводчиками, ни соотечественниками, ибо мистические натуры лишь отчасти проявляют себя, и то поневоле. А Маркова проникла и рассказала о ней, и перевела ее стихи, встретив в безлюдье родственную душу.
Но, наверное, главная мелодия поэзии Марковой – это дитя, извечное, неродившееся, но существующее постоянно, ощутимое почти физически. А, может быть, весь мир для нее дети, неразумные, шальные или добрые, милые, всепрощающие? И она смотрит на них материнскими глазами, всепонимающими, любящими… Не потому ли, что сама оставалась в душе ребенком, как бывает с одаренными людьми: они не взрослеют, лишь становятся мудрее.
Наверное, она предчувствовала свой уход, ей очень не хотелось обременять близких. Никак не верилось, что такой человек может уйти, покинуть нас. Тогда многие были потрясены. Ушла она в ночь с 8-го на 9-е марта 1995 года. Тогда же в «Литературной газете» от 15 марта 1995 г. появилась совсем небольшая, но проникновенная заметка «Памяти Веры Марковой»: «То, что она увидела и поняла об этом веке еще в молодости, велело ей принять своего рода постриг, дать обет молчания… Она не желала быть – даже косвенно – соучастницей подлости, отречения от «учителей бессмертия», унижения русской Музы, и она разрешилась от добровольного затвора лишь после того, как вернулись к читателю все, от кого он, читатель, имел несчастье отречься… Она являла собой пример того благородства, совершенной честности и самоотречения, о которых современные писатели (да и читатели) попросту не подозревают».
Но она ушла без тени обиды, не взяла никакой тяжести с собой, легкой поступью поднялась, отдав людям все, что имела.
http://www.orientalistica.ru/publish/orirus/markova.htm (жаль, ссылка не открывается — raf_sh)
Эмили Дикинсон в переводах Веры Марковой:
http://orel3.rsl.ru/nettext/foreign/dikinson/dikinson.txt
— до «Голосов природы не счесть…» включительно, остальные, начиная со «Сражаться громко — славный путь» — в переводе Ивана Лихачева.
Источник: https://raf-sh.livejournal.com/279410.html
Стихи В.Н. Марковой
¤ ¤ ¤
Любовь слоиста.
До верхнего неба далеко.
Не пролететь даже птице
Сквозь шесть небес.
Седьмое – черно,
И не мигает око Светила,
Дробящего вечность, как волнорез.
А для меня даже первое небо – порох.
Блеснуло, обрушилось, запорошило глаза.
Но зашуршит в траве
Твой невысокий посох,
И обовьется кольцом рука моя, словно лоза.
1982
¤ ¤ ¤
Сначала звук, слова потом
Цепляются за кончик нити.
А мы единожды живем,
Вы наших слов не сохраните.
Из-за чего же эта дрожь
И мания вскрывать гробницы,
Души и сердца нетерпеж,
Манок нетронутой страницы?
Не из-за и не для чего,
А так, блажная дурь находит.
За ней, конечно, старшинство.
Со дня творенья колобродит.
1982
¤ ¤ ¤
Есть по правую руку Господь,
Есть по левую руку нора.
А он, как зверь, все бежал вперед,
Ослепленный огнями фар.
«Да» и «нет» друг другу сродни,
Это мысли последний итог.
Но гонимого недолги дни,
А гонитель ответ приберег.
Мне бы крылья — окончить спор!
Мне б в искусство, петляя, нырять.
Есть по правую руку Господь,
Есть по левую руку нора.
1981
ЗАВЕЩАНИЕ СЫНУ
…Не привыкай ни к чему,
Гляди на все словно в первый раз
Не привыкай ни к воде, ни к хлебу,
Ни к низкому,
Ни к высокому небу…
Если сто раз тебе солгут,
Сто раз удивись, что слова так хрупки.
Если сто раз тебя истолкут,
Не привыкай ни к песту, ни к ступке.
Не доверяй привычным весам.
Не давай глазам зарасти коростой.
Это главное, это непросто.
О прочем ты догадаешься сам.
ЛУНА ВОСХОДИТ ДВАЖДЫ
Горы когтями ловили луну,
Но не могли к себе залучить.
Вновь отрастают по одному
Ее обрубленные лучи.
Это чудо я видела не одна:
Дважды в ночь поднялась луна.
Вот он, мост через темный кювет…
Вот осветилась дорога к дому…
Верю тебе, немеркнущий свет,
И человеческому, простому.
¤ ¤ ¤
Я солнца зимнего собой не заслоняю,
И время сквозь меня течет, теряя вес.
Полуоглохшая, усталая, больная,
Но на земле чудес
я – чудо из чудес.
Как льдинка,
человек во мне все больше тает,
По мостовой стучит, стучит капель.
Да, небо тяжело, но как оно блистает!
Да, тяжела земля, благословенна цель!
¤ ¤ ¤
Я так боюсь поддельного румянца,
Но вспыхну, словно от глотка вина,
И не прельщусь посулом самозванца,
Вассальной верностью пригвождена.
Не так-то просто, жмурясь перед кривдой,
Скрываться от себя и от других.
Блеснет зазор меж Сциллой и Харибдой.
И проскользнет неустрашенный стих.
И руки опущу, и отпылаю,
Вдоль стен, как в дни обстрела, семеня.
И никогда сама не разгадаю,
Кто говорил во мне и за меня.
1989
¤ ¤ ¤
Я вижу снег.
Он чередует
По воле света все цвета.
Я вижу свет.
Он днюет и ночует
У моего оконного креста.
Когда же нагляжусь я и устану
Уловленная снегом и крестом,
Когда ничем я неизбежно стану,
Я стану всем.
И помирюсь на том.
ВСТРЕЧА
Автобус полон…
Мелкое сметьё.
Ты поднял воротник, уткнулся в книгу
И на скамье вплываешь в забытьё.
Земная тяга не придавит книзу.
И отпадет толпа – постылый стыд,
И ты навстречу озаренью выйдешь…
А мать с Ребенком пред тобой стоит.
Они! Они!
Но ты их не увидишь.
1988
МОЛИТВА
Уже земле я неподсудна,
Дозволь из всех Твоих путей
Один мне выбрать, самый трудный:
Пошли меня хранить детей!
Когда дрожит небесный круг
От нестихающего крика,
Но мать не пробудил испуг,
Пошли меня, пошли, Владыко,
Принять дитя из мертвых рук.
Прекрасен труд мастерового,
Люблю игру его затей.
Отдай другим резец и слово.
Меня пошли хранить детей.
1982
¤ ¤ ¤
Казни меня или милуй,
Я – порожденье слепых стихий.
Они мной владеют до самой могилы,
По праву,
Не за мои грехи.
Дыханье моря – приливы, отливы
Гонят мою соленую кровь.
Руки мои – ветки оливы.
Череп – поющей сферы покров.
То, что есть, и будет, и было,
Мерзость мира и прелесть его,–
Господи, это мне не под силу! –
Но под силу Тебе – и несу, ничего.
1982
¤ ¤ ¤
Сестра и брат – Гармония и Хаос,
Кто старше? Кто кого переживет?
Что ж! Родилось и, кажется, распалось,
Качнулся мир, но музыка – оплот.
Ловлю ее в стихе, в сумбурной речи,
Но знаю, лучше слышит соловей.
Ему дано. Еще он недалече.
Он маленький судья семьи своей.
Еще он здесь. У старого колодца.
Как бы спешит все оплатить с лихвой.
Мы прощены, и песня остается,
И разговор меж мною и тобой.
1988
¤ ¤ ¤
Оплавит пламенем слова
Отчаянье, летя с обрыва,
А ненависть тем и жива,
Что огненно красноречива.
Надежда? Но ее лови
У отравителей сознанья,
И лучшие слова любви —
Прощание и поминанье.
Так что ж ты хочешь от меня?
Чтоб взглядом разомкнула дали,
Где вечно сеют семена
Нас пережившие печали?
Глаза и уши загражу
И в государыню-пустыню
Уйду. Там я найду грозу,
Свет перейму и тьмой застыну.
1981 — 1982
¤ ¤ ¤
«Витающий в пространстве волосок —
Глагол людской».
Да, так сказал мудрец.
Я вижу сталью скошенный лесок.
Я слышу крик, последний крик сердец.
Кровавые разомкнуты уста.
Они в пустыне мира вопиют.
Восход в конце Великого поста —
Благая весть, как колокол, пуста.
В каких словах найдет себе приют?
Наш рай земной посулом не сберечь.
Кто гибель обещал, лишь тот пророк.
Но и его провидческая речь —
Витающий в пространстве волосок.
Канун Рождества Христова 1981
СЛАДКОПЕВЕЦ
Певцы слепого упоенья…
А. Пушкин
Глухонемые неповинны.
Я осужден. Я знал. Я мог.
Свой чуткий рык, широкий, львиный,
Я утишил.
И он умолк.
Я долго дудочкой целебной
Дурманил дурней, словно крыс,
Но демон моего молебна
Мне втайне горло перегрыз.
Кому я крикну из-под снега,
Кому, пылая, посулю:
«Я — Слово. Альфа и Омега.
Чтоб воскресить, испепелю».
1984
¤ ¤ ¤
… ночь лимоном
И лавром пахнет…
А. Пушкин «Каменный гость»
Почем фунт света — знает полярная тьма.
Почем фунт лиха — узнает самый везучий.
А ночь пахнет лавром
И сводит метель с ума.
Я книгу с собой ношу —
Карманный Везувий.
Она сожгла палату мер и весов,
Смешала добро и зло,
И я геенну не кличу.
И мой тяжелый шаг почти невесом.
И мрамор моей руки отпускает добычу.
1986
¤ ¤ ¤
Я шла по улице домой.
Порвали псы меня на части.
Теряя первозданный строй,
Сползались пясти и запястья.
Пошел насмарку Божий труд,
И вот я поднялась — химера.
Подделками меня затрут —
Потерянный секрет промера.
Но свет, причудливей, чем тьма,
Блеснул, как на постели брачной.
Я вновь сама себе — сама,
Неприкасаемо прозрачна.
1988
¤ ¤ ¤
Наедине с собою, как с Богом.
Не смотришь, а видишь.
Сначала
С легким всхлипом, как пузырьки,
Всплывают и пропадают
Голоса, города,
Тени…
Потом становится тихо.
Медленно – по ступеням – восходит
Арктическая, ледяная,
Белая-белая мысль.
И я рисую на ней.
Скажи,
Для чего Тебе нужно
Все – и это еще:
Головоногий мой человечек,
Точка, точка и два крючочка?
Смеешься ли Ты,
Кладешь ли в папку и ставишь год
Или входишь в мое плечо
И тихо-тихо толкаешь руку?
Стань меньше, прошу Тебя!
Вот Тебе домик, и вот Тебе дождик,
Косоугольное облако,
Сбитые в пену листья
И длинные, удивленные звезды.
Прости!
Больше я ничего
Не умею.
1967
¤ ¤ ¤
Узнавая, не узнаю
Ни стены, ни стола, ни стекла.
Всю страну и всю жизнь мою
Память-птица пересекла.
Может, сверху они сон-трава,
Мелочь, россыпь, мякина веков…
Размололи их жернова,
Раскрошили их руки богов.
Падай камнем, птица моя!
Подними горизонты земли.
Как широко вдоль острия,
Как высоко люди прошли!
1983
ПОСВЯЩЕНИЕ МАРИИ
Я все отдаю,
Что гоже, негоже,
Доверясь правой, ее чутью.
Случится, виссон, придется, рогожу.
Кому, от левой руки утаю.
И только звуки колдовские,
Что сами льются, как дожди,
Я в ладанку зашиваю, Мария,
И спрячу у себя на груди.
14 июня 1981
¤ ¤ ¤
… И услышала я неслышное пение,
Сильное, как прибой,
И дневное столпотворение
Отключилось само собой.
И жизнь моя, обитая войлоком,
Блеснула острей ножа,
И меня унесло – вскачь или волоком
За оба ее рубежа.
И было начало и воскрешение
Одно, как мука с водой,
Пока звучало беззвучное пение
И дух мой был – не со мной.
1981
Источники:
http://alexandrtrofimov.ru/?p=7844&page=6
https://poem-of-day.rifmovnik.ru/2019/03/03/vera-markova/
https://www.facebook.com/vera.markova1907/
Как хорошо! Поклон.
Светлая память Мастеру — Вере Марковой. Царствие Небесное. RIP
https://proza.ru/2017/12/28/2224
***
… https://proza.ru/2020/03/01/1421 ….
***
https://youtu.be/UMl0VUeHylg
YouTube
Отдых и спокойствие
*** *** ***
https://proza.ru/2017/05/16/1464
*************************************************************
https://youtu.be/Q4bYyFG6smI
YouTube
Sahara Sunrise with beautiful relaxing music & meditation#youtube #music #meditation #relaxation
Sahara sunrise with beautiful relaxing music and meditation
https://youtu.be/Yo_asnl24ks
YouTube
Новолуние в Тельце 19 мая 2023 в 18:53 по МСК: Мощные преобразования Реальности. Прогноз для каждого знака
00:00 характер Новолуния 19 мая
04:24 Карта Новолуния
05:14 Юпитер в Тельце
09:37 Рекомендации
11:05 Высший Зодиак Охотник
12:17 Конфигурация Трапеция
14:17 Волшебный 1-й Лунный день
****************************************************************************
Всем — новых творческих состояний ума и сознания, тонкого звучания души и сердца желаю! Очищения, просветления и стойкой светимости — в наше темное время! Добра и Любви! Господь ваш, живи! Шаг и Путь, дорогие! Хранимы! Ом
Душою с вами, НАШ
🙂
*************************************************************
https://www.youtube.com/watch?v=1lUw0-Hnuto — Love Energy Healing ☼ Detox & Heal Your Heart | 432Hz Love Frequency Music
*************************************************************
Какой вариант будущего материализуется, зависит только от вас: https://www.youtube.com/watch?v=bkUnyC5-ij0 — Божественный план #Эра Возрождения
*************************************************************
Создавайте Красоту, спасающую мир! Аминь 🙂
*************************************************************
https://youtu.be/BXqjGzq0X_A
YouTube
Черная дыра в центре галактики//Эра Водолея
*** *** ***
https://youtu.be/YO7ET_c-3PU
YouTube
Все больше людей будут чувствовать Странные состояния//Новая Жизнь
*************************************************************
!!!
https://www.youtube.com/live/7UmXRD9BkCQ?feature=share
YouTube
Hans Zimmer’s Universe
Браво! Люблю.
…. Работаем, не ленитесь, сотрудники Света, творите Новую Чистую реальность из Себя! Ом
См. http://jezmmm.ru/esotericastrology/shlemovana/2022/07/15/n-shlemova-algoritm-duhovnoj-raboty-v-tochkah-novoluniya-i-polnoluniya-prilozhenie-s-n-lazarev-kak-zhit-i-razvivatsya-vne-zony-komforta-01-07-22/
Радио Свобода:
Страны G7 в Хиросиме приняли заявление по Украине и России
19 мая 2023
Лидеры стран «Группы семи» (G7) на саммите в Хиросиме приняли заявление об Украине и российской агрессии. Оно состоит из 11 пунктов. Документ опубликован на сайте Белого дома.
Страны «семёрки» выражают полную поддержку Украине. Война России названа незаконной, неспровоцированной и захватнической. В документе подчёркнуто, что, напав на Украину, Россия нарушила международное право и Хартию ООН. G7 требует полного и безоговорочного вывода российских войск с украинской территории.
Особую озабоченность у лидеров G7 вызывает атомная безопасность Украины и, в частности, Запорожской АЭС. Страны поддерживают усилия МАГАТЭ в этой области и призывают к этому и другие государства.
«Группа семи» вновь подтверждает, что будет оказывать Украине как военную поддержку — при содействии Контактной группы по обороне Украины, — так и экономическую помощь в восстановлении, посредством Международного валютного фонда. Первоочередное внимание уделяется восстановлению энергетической инфраструктуры.
В то же время, подчёркнуто в документе, страны G7 будут поощрять борьбу Украины с коррупцией и проведение судебной реформы.
В Хиросиме лидеры стран G7 обсудят новые санкции против РФ
Что касается России, «Группа семи» намерена и далее продолжать политику санкций. Будут расширены запреты на экспорт в Россию любой продукции, материалов и технологий, которые могут применяться в военных целях. Санкции не коснутся экспорта, связанного с сельским хозяйством, медициной и гуманитарными целями. G7 намерена принимать меры и против третьих стран, которые сами или в качестве посредников поддерживают российскую военную машину.
В частности, G7 будет продолжать политику отказа от закупки российских энергоносителей или введения потолка цен на них, а также от импорта металлов и алмазов.
Страны «семёрки» приветствуют создание в рамках Совета Европы регистра нанесённого Украине ущерба. Россия будет обязана его возместить. G7 будет замораживать и при возможности конфисковывать размещённые в её странах российские активы.
Параллельно с поддержкой Украины, страны G7 будут развивать усилия по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности уязвимых стран.
«Группа семи» — неформальное политическое объединение наиболее экономически развитых демократий мира. В группу входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония. Также в саммите G7 принимают участие представители Еврокомиссии.
Президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в саммите G7 в Хиросиме, но пока неясно, лично или в формате онлайн.
//https://d33qa7exum07vi.cloudfront.net/a/strany-g7-v-hirosime-prinyali-zayavlenie-po-ukraine-i-rossii/32419060.html
См.: https://vk.com/wall-209832524_4593
Япония: книги и статьи
16 сен 2023
Подборка: работы Т.П. Григорьевой
1. Григорьева Т.П. Японская художественная традиция.
М.: Гл.ред. вост. литер. изд-ва «Наука», 1979.
Книга приближает читателя к более глубокому восприятию эстетических ценностей Японии. В ней идет речь о своеобразии японской культуры как целостной системы, о влиянии буддизма дзэн и древнекитайских учений на художественное мышление японцев, о национальной эстетической традиции, сохранившей громадное значение и в наши дни.
2, 3. Григорьева Т.П. Красотой Японии рожденный.
М.: Искусство, 1993
Книга состоит из двух разделов. В первой части автор раскрывает специфические черты эстетики Японии, которая пронизывает жизнь японского народа и привлекает своим своеобразием и живым очарованием души других народов. Эта эстетика питается истоками неповторимой поэзии и прозы Японии, она находит отражение в своеобразных ритуалах и церемониях, с некоторыми из которых читатель может познакомиться в этой книге. Автор подчеркивает
плодотворность дзэн-буддизма, мастера которого, исходя из единства всего сущего, в любом проявлении способностей человека видели путь к его совершенствованию.
Вторая часть представляет фрагменты из антологии средневековой поэзии Японии, классической прозы, в том числе и прозы современного писателя, лауреата Нобелевской премии Кавабата Ясунари.
4. Григорьева Т.П. Япония: путь сердца
М.: Новый Акрополь, 2008.
Эта удивительная книга окажется важной для тех, кто интересуется культурой, традицией, историей Японии. Японию можно назвать одной из самых культурных наций, — не потому что она помнит древние тексты, а потому что чтит духовную культуру… Если корни Культуры уходят в глубину, они не могут исчезнуть, рано или поздно человеку возвращается то, что ему принадлежит… Японская культура развивается, возвращаясь к Основе, к «изначальному образцу», чтобы ничто не исчезло. Возвращаясь к истокам, продвигается вперед.
5. Григорьева Т.П., Логунова В.В. Японская литература. Краткий очерк.
М.: Наука, 1969
В книге сделана попытка охарактеризовать богатейшие японские литературные традиции, дан обзор современной литературы.
6. Григорьева Т.П. (отв. ред.) Буддизм в Японии
М.: Наука. Издательская фирма «Восточная литература», 1993.
Монография является первой в отечественной литературе попыткой проследить процесс становления японского буддизма, проанализировать объективные и субъективные факторы социально-политического и культурного характера, определившие облик этой идеологии на Японских островах, выяснить специфические черты, которые приобрел буддизм в Японии, его роль в обществе и влияние на формирование общественной мысли и культуры страны. Приведены выдержки из трудов Нитирэна, Догэна, Эйсая и других трактатов, излагающих основы учений.
7. Григорьева Т.П. (ред.) Человек и мир в японской культуре
М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1985
В книге освещаются особенности японской культуры, то, как традиционные мировоззренческие установки японцев сказались на отношении к миру и человеку, на философских и эстетических взглядах и на законах художественного творчества.
8. Григорьева Т. П. Дао и логос (встреча культур)
М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1992.
В книге ставится проблема соотношения культур как единства в многообразии, освещаются те стороны мировоззрении древних китайцев в древних греков, которые повлияли на разные пути познания, обусловили своеобразие культурных парадигм греко-христианского и буддийского мира, рассматриваются причины не всегда совпадающего
отношения к таким кардинальным понятиям, как хаос а гармония, слово и молчание, к символике квадрата—круга, огня—воды. Особое место отводится этическому аспекту истории, «вечным вопросам» о добре и зле, о смысле жизни и назначении человека. Автор подводит к мысли о взаимодополняемости культур Востока и Запада и закономерности их встречи в XX в.
#япония #культура
Михаил Владимирович Гришин. Статья: Эстетизм в японской культуре./Сб.: Художественная культура, №4, 2012, ГИИ:
https://artculturestudies.sias.ru/2012-4/teoriya-hudozhestvennoy-kultury/769.html
Японский сад камней. Медитация, релакс:
https://youtu.be/fBABS2J7RfY?si=zKSJH0T1pk1VoD1w