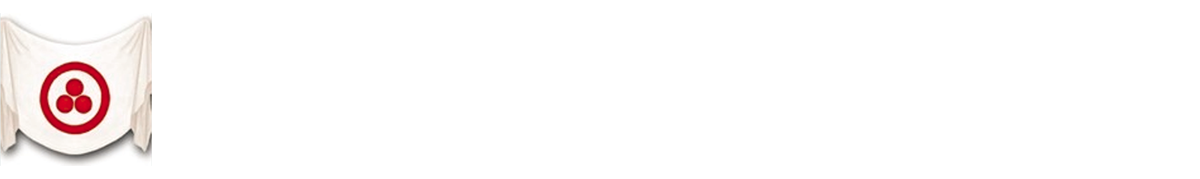Да, сегодня великий день, сегодня 135 лет со дня рождения Велимира Хлебникова. Вот — если кому интересно — мой очерк о нем. Писал, помню, и сердце сжималось. От жалости, от участи всех великих…
«ЧАСОВЩИК ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
«Гений, гений!» — кричали ему в лицо. Если, конечно, не обзывали «идиотом». А он был — кукушонком. Но никто этого не знал.
«От него пахнет святостью», — сказал мэтр Вячеслав Иванов. Мандельштам, сам гений, наскакивал на Бердяева: Хлебников — «величайший поэт мира». Художник Малевич звал его «астрономом человеческих событий», Маяковский — «Колумбом поэтических материков». Его равняли — с ума сойти! — с автором «Слова о полку Игореве». И все: Мандельштам, Маяковский, Михаил Кузмин сравнивали с птицами: цаплей, аистом, воробьем. Он и сам напишет про себя: «Хожу как журавель». Но был, повторяю, кукушонком. Чужим в поэтических «гнездах». И на изысканной «Башне» Вяч. Иванова. И в «голубом» салоне Кузмина. И даже — в «шайке» Маяковского. Почему? Да потому, что сразу взлетел выше кружков, школ и направлений, сразу стал — самой поэзией. Его так и числили: Ломоносов, Пушкин, Блок, Хлебников. Всё! Больше нет гениев. И ведь действительно — кто мог сказать: «Мы в ведрах пронесем Неву, // Тушить пожар созвездья Псов…»
За год до смерти написал: «Всем! Всем! Воля! Воля будетлянская! Вот оно! Наше откровение. И до нас пытались писать законы. Бедные! Главным украшением своей законоречи они считали дуло ружья… Мы, стоя на глыбе будущего, даем такие законы, какие можно не слушать, но нельзя ослушаться. Они сделаны не из камня желания и страстей, а из камня времени…»
«Всем!» — значит и нам. «Воззвание» написано в 1921-м. Но и ныне читаешь его, перечитываешь, трясешь головой, и — снова читаешь. Слова — русские. Но что имел в виду, какими законами «из камня времени» грозил? Поэт, философ, математик, первый футурист, наконец, «Председатель Земного Шара»? Ясно одно: выкрикнул это в вечность «одинокий лицедей», «узник созвучия», «звонкий вестник добра», «священник цветов», «сеятель очей». «Часовщик человечества» — накуковавший срок этой самой Вечности…
«Кукушонок» и гонорар
Будетляне — люди будущего. Слово придумал Хлебников за три года до футуризма, который и вылупится из «будетлянства». «Мы пришли озарить Вселенную!» — крикнет однажды друзьям. И, ловя восторг в их глазах, выпалит: «Давайте тогда, давайте пророем канал между Каспийским и Черным морем». Все онемеют. А Хлебников, перебьет себя: «Нет. Будетляне должны основать остров и оттуда диктовать условия миру. Будем, как птицы. Прилетать весной и выводить разные идеи…» Бурлюк, жалкий реалист, кисло спросит: «А чем питаться?» — «Чем? — задохнется Хлебников. — Да, плодами. Мы можем быть охотниками. Мы образуем племя». — «И превратимся в людоедов, да? — захихикает компания, — Нет уж, лучше рыть канал. Бери лопату, Витя…»
Спор состоялся в 1910-м. А за два года до этой «чумы» в Петербурге возник нелепый юноша: сутулый, в сползающем плаще на одном плече, с «длинным синим глазом» и «длинной» падающей походкой. Поселился на Малом проспекте, да не в комнате — в коридоре за занавеской. Студент. Никто не знал, правда, что родился он на дне того самого Каспийского моря. На высохшем, разумеется, дне — в Малодербетовском улусе под Астраханью. «В стане монгольских кочевников, — гордо поднимал палец, — «в Ханской ставке». И с колыбели был почетным гражданином Астрахани — этого добился для детей и внуков дед, купец первой гильдии. Звание, кстати, освобождало от подати, телесных наказаний и рекрутства. Освобождало, но не освободило, о чем я еще расскажу. А отец поэта, попечитель управления калмыцким народом в улусе — ученый, лесовед, основатель первого в России заповедника — выйдя в отставку статским советником, стал дворянином. Поэта, впрочем, это не особо вдохновляло — гордился другим. Щепетильностью отца, который, вообразите, подстрелив случайно «запретную» птицу в своем же заповеднике, сам себе выписал штраф. Где теперь такие лесоведы? И еще гордился, что дядя его Александр Михайлов, двоюродный брат матери, вместе с Желябовым и Перовской был повешен. Поэт и сам в тюрьме, нарисовав на стене портрет Герцена, вызывающе вывел под ним: «Вот мое прошлое, которым я горд».
Да, Хлебников сидел в тюрьме. Был арестован, когда после вечера в честь юбилея Казанского университета, он, студент-математик, вырвался с друзьями на улицу и, распевая «Дубинушку», двинулся к театру. И не убежал, когда перед ним встала на дыбы лошадь полицейского, и сверкнул палаш. «Надо же было кому-нибудь и отвечать». Месяц сидел в камере. Но, выйдя на волю, и стал «вечно обморочным». «Вся его жизнерадостность исчезла, он с отвращением ходил на лекции, — вспоминали близкие, — и вскоре подал прошение об увольнении». Только через год вновь поступит в университет. Но уже не на математическое — на естественное отделение. На «общую зоологию».
Поэт Асеев, окрестивший его «словождем», пораженный кругозором Хлебникова, годы спустя, напишет: он кончил не один — три факультета: математический, естественный и филологический. Увы, это не так. Учился на трех, но не окончил ни одного. Сам скажет: имел «три четверти» университета. Его ведь и из Петербургского университета исключат, как не внесшего плату. Он даже не «оглянется» на это — он как раз работал «над числами и судьбами народов». Какая уж тут учеба? Да и что с того, что исключили, если перед ним уже почтительно вставали преподаватели. Профессор Василенко вспоминал, что они, университетские педагоги, ходили иногда на посиделки студентов: спорить, слушать рефераты. Иногда туда залетал Хлебников. «И, удивительно, — пишет Василенко, — при его появлении все вставали. Непостижимо, но я тоже вставал. Я многие годы уже был профессором. А кем был он? Студентом 2 курса, желторотым мальчишкой! Нет, это что-то такое, чему нет объяснений».
Не было объяснений многому. Умению разговаривать без слов, писать иглой дикобраза, способности изжарить, при отсутствии масла, яичницу на расстеленной в сковородке газете или, увлекшись писанием, грызть вместо корки — шишку, раздирая в кровь губы. Наконец, нет объяснения тому, что первой публикацией его стали не стихи, не рассказ с диким названием «Мучоба во взорах» — научная статья. И знаете о чем? О кукушках! То-то друг его, Давид Бурлюк, назовет его не только математиком и филологом, но — орнитологом. Хотя настоящим знатоком птиц был отец поэта, истый чтец Дарвина. Впрочем, и здесь всё не просто. Ведь поэт и сам скажет потом нечто уж вовсе загадочное: «Стихи должны строиться по законам Дарвина…»
Словом, зоология, революция и стихи — вот приоритеты. Или наоборот: стихи, революция, зоология. Ведь живя еще за занавеской он почти победно сообщит домой, что был на вечере поэтов и видел всех «из зверинца»: Сологуба, Городецкого и др. А в той же «Мучобе во взорах», будут уже жить и «пёс с языком мысли», и «правдохвостый сом». Зоолог. Конечно — зоолог!
Вообще, в литературу входят по-разному. Хлебников, задира и буян в жизни (шесть вызовов на дуэль только в одном семестре), в литературу вошел, считайте, на цыпочках. Подымаясь по лестнице. Просто как-то вечером, переборов стыд, вступил в подъезд обычного доходного дома, где располагался журнал «Весна», и стал крадучись подниматься. Шаги его, правда, услышал сидевший в редакции Василий Каменский, поэт. «Я вышел на площадку, — писал он, — шаги исчезли. Снова взялся за работу. И опять шаги». Тогда Каменский спустился этажом ниже и увидел вжавшегося в стену студента; тот испуганно смотрел голубыми глазами. «»Вы, коллега, в редакцию? — спросил Каменский. — Не стесняйтесь. Я такой же. Редактора нет». В комнате студент сел на край стула, снял фуражку, по-детски открыл рот и уставился на меня небесными глазами. Так мы смотрели друг на друга и улыбались». «Вот тут что-то… вообще», — протянул студент синюю тетрадь, скрученную винтом. В ней была та самая «Мучоба». Рассказ, но под другим названием, напечатают. Но вот что занятно: первый гонорар дебютант спустит буквально за час. Зайдет съесть шашлык под «восточную музыку», и все деньги отдаст музыкантам, которые окружат его, будут играть, петь и кружить лезгинку. «Ну, хоть шашлык-то съели?» — съязвит Каменский. «Нет, — ответит, — не пришлось, но пели они замечательно. Голоса горных птиц…»
Оценила птиц — птица!
«Треугольная» душа
Для нас язык — инструмент. Для Хлебникова — Вселенная. Городецкий перечислял потом: Хлебников «создал теорию значения звуков, теорию повышения и понижения гласных в корнях, теорию изменения смысла корней». Смешно читать. Он не назвал и десятой части сотворенного им. Иные идеи его только сейчас, через сто лет, начинают находить признание. Он говорил и о связи времени и пространства, и о цикличности исторических процессов, и о влиянии лунных и солнечных циклов, и о законах расселения народов. Писал о проблемах экологии, атомной энергии, размышлял об архитектуре будущего (о зданиях в форме цветов), о завтрашнем дне радио и кино. В поэзии же не просто создал «периодическую систему слов» — мир переименовал. И для забавы сочинял аналоги иностранным словам: литература — письмеса, актер — игрец, поэт — небогрёз. А слову «автор», хирургически вылущив смысл, дал даже два имени: словач и делач. Гениально, не так ли?! Ведь если «словач» звучит как мастер, то «делач» — как делец от творчества.
Так вот, в 1910-м, когда наш «небогрёз» поселится у Волкова кладбища в доме какого-то купца (за бесплатные уроки купеческим дочкам), его окружали уже только «авторы»: поэты, писатели, художники. Он принят уже в Академию стиха, где преподают Вячеслав Иванов, Брюсов, Кузмин; стихи его вот-вот появятся в изысканном «Аполлоне»; с ним дружат Гумилев, Маковский, Алексей Толстой. Но среди всех уже тогда можно было вычислить и тех, кто станет «словачом» — мастером — и тех, кто найдет в слове выгоду, хитрых и деловитых — «делачей». Увы, их, имитаторов души и таланта, будет с годами толпится вокруг Хлебникова все больше и больше.
Тот домик у кладбища в Петербурге не сохранился. А жаль. Ведь оттуда он напишет «простому, как кирпич» Каменскому, что вообще-то они не люди — «новый род люд-лучей». И оттуда «выдернет» Хлебникова и увезет к себе в Чернянку, на Украину, Давид Бурлюк. В Гилею увезет, как звал эту местность еще Геродот, и как назовут потом свою группу «люд-лучи» — футуристы. Но главное, в том прикладбищенском доме и как раз в день отъезда случится событие, ну, не знаю — эпохальное. Бурлюк пишет: «Быстро собрали «вещи». Был чемоданчик и мешок, который Витя вытащил из-под кровати; наволочка, набитая скомканными бумажками, обрывками тетрадей, листками бумаги… «Рукописи», — пробормотал Хлебников». Но, таща поэта «за ручку», уже шагнув за порог, Бурлюк увидит вдруг валявшуюся у двери бумажонку. Счастье, что нагнулся за ней! Ибо это было «Заклятие смехом». Помните: «О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи!..» Оно станет не только самым знаменитым стихотворением поэта — всего русского футуризма. С него и начнется слава поэта. И с этого часа начнется кутерьма и круговерть его жизни.
То живет у Бурлюков в Чернянке, где придумает название сборнику футуристов «Садок судей», который друзья назло, протестуя против роскошных изданий символистов, напечатают на оборотной стороне обоев. 300 экземпляров, но — какой эффект! Лай, свист, кваканье, шипенье. То болтается в Астрахани, где будетлян сразу назвали «идиотичами» и «дураковичами». А то дремлет в Москве в красном кресле, в «Романовке», на углу М.Бронной и Тверского, в доме, который стоит и ныне и где тогда было общежитие студентов консерватории. Дремлет или блаженно улыбается. Ибо здесь, в «гнезде музыки», как звали общагу, обитали на 4-м этаже «консерваторка» Маруся, жена Бурлюка, и две их родственницы — Надя и Люба. Бойкие, видимо, девицы. Они, если не дули чай с баранками, уютно подхватывали его под руки и тащили то за билетами в театр, то по лавкам — за шляпками да за нитками. И он, в пальто с поднятым воротом и диком «пирожке» на лобастой голове, охотно шел между ними, так и не стирая глуповатой улыбки. Ни разу не улыбнулся только в то утро декабря 1912 года, когда сюда сбежались люди серьезные: Маяковский, Бурлюк, Крученых. Сбежались для дела, которое назовут потом рождением футуризма — для составления манифеста «Пощёчина общественному вкусу». Вчерне он был готов, но спор пошел за каждое слово. Крученых предложил «выбросить» Достоевского, Толстого, Пушкина. Маяк добавил: «с парохода современности». «Душистый блуд Бальмонта», фраза Хлебникова, не прошла, остался блуд, но «парфюмерный». Зато предложение его «Стоим на глыбе слова мы» вошло целиком. «Вымойте ваши руки, прикасавшиеся к слизи книг, написанных бесчисленными Леонидами Андреевыми, — взывал манифест. — Этим Горьким, Куприным, Аверченкам нужна лишь дача на реке. С высоты небоскребов (с четвертого этажа, помните?) мы взираем на их ничтожество!» А когда манифест стал листовкой, Хлебников будет назван в нем «гением — великим поэтом современности». И там же, в приложении, он за четыре года предскажет революцию. Прозрение? Наитие? Не знаю. Но он написал: «Не стоит ли ждать в 1917 году падения государства?» Если бы хоть кто обернулся на эти слова?!..
С Бурлюками скоро разругается — не его «гнездо» окажется. А Давида едва не зарежет. Да, да! Он ведь, как я говорил, несмотря на «обморочность», был горяч. Не кричал: «Зарежу!» — просто хватал нож или скоблилку художника и бросался на обидчика.
С Бурлюком, да вообще с будетлянами, все началось из-за Маринетти, из-за итальянца, поэта-футуриста и будущего отца всемирного фашизма. Из-за него порвет с «футурней» и даже вызовет на дуэль одного генерала. Знаменитая, кстати, история.
Имя генерала — Николай Кульбин. До пятидесяти лет, пишут, жил, как все. Но однажды в мутный январский вечер у Троицкого моста, вдруг увидел лошадь на боку и извозчика, хлеставшего ее по глазам.… «И в ту минуту, — рассказывал поэту Г.Иванову, — по всему Каменноостровскому вспыхнули фонари. Еще не стемнело, и вдруг — фонари. Как это прекрасно…» — «Ну?» — не понял его Иванов. «Всё. Больше ничего. В эту минуту перевернулось во мне что-то. Стою и думаю: на что ты убил 50 лет, старый дурак?..» Тогда-то и изменилось все в жизни генерала-медика и приват-доцента — «сумасшедшего доктора». Он стал художником. Теперь, на выставках, цедил зевакам: «Мы даем свое впечатление, импрессио. Все условно. Даже солнце одни видят золотым, другие — серебряным». В ответ — визг: «Маляры! Нахалы!» Но с этими «нахалами», с футуристами, Кульбин свяжет себя уже навечно. Отныне в дубовой гостиной генерала ночуют бездомные поэты, в три часа ночи кто-то по телефону требует денег, какой-то будетлянин плещется в его ванной, а другой гнусаво требует завтрака в кровать — водки, извините, и огурца! Кульбин же среди этого «разврата» порхает — пишет картины на алюминии (желтый куб на бледно-синем фоне, серый конус — на оранжевом) и размахивая кистью, убеждает друзей: солнечные пятна влияют на революции, а людям лучше говорить: «Ты — гений!» — тогда человек пройдет даже по канату… «Значит, душа треугольна?» — терзает в углу Хлебникова. «Треугольна», — закуривает, бросает папиросу и снова закуривает тот. «Хорошо, — кивает доктор медицины. — Что потом? Искусство?» Хлебников сияет: «Искусство — укус-то!» Кульбин в ответ тоже сияет: «Находчиво. Укус-то. Браво-браво!..» Так пишет о разговорах двух не от мира сего злоязычный Иванов. Но именно с Кульбиным у Хлебникова и грянет ссора из-за приехавшего Маринетти.
Пик скандала случится в зале Калашниковской хлебной биржи. За минуту до сенсационной лекции итальянца. «Апостол электрической религии, просветив страны Западной Европы, — писали о лекторе газеты, — является просвещать нас». Бомонд млел! Лишь Ларионов, художник, поклялся, что закидает его яйцами (вообще-то он всегда призывал «орудовать всеми средствами вплоть до графина по голове»), да гордый Хлебников, составив воззвание против итальянца, кинется накануне срочно печатать его в типографии. Уж кто предупредил Кульбина про воззвание, неизвестно, но он до самого начала лекции караулил «кукушонка», нервно поглядывая на дверь. Наконец, когда Маринетти взойдет на кафедру, в зал влетит запыхавшийся Хлебников и станет быстро раздавать по рядам листовки. «Сегодня иные туземцы и итальянский поселок на Неве, — говорилось в них, — припадают к ногам Маринетти, предавая первый шаг русского искусства по пути свободы и чести… Чужеземец, помни страну, куда ты пришел!» Кульбин с проворством, неожиданным для пожилого человека, кинется отбирать и рвать листочки, а потом погонится и за автором. «В первый раз я видел Кульбина остервенелым, — пишет Лившиц, поэт, — он, казалось, был способен испепелить Хлебникова. Что там произошло у них в другом конце зала, не знаю, но, когда Кульбин вернулся на эстраду, он производил впечатление человека, выпрыгнувшего из поезда на полном ходу». Вот после этого буйный Велимир («повелитель мира», — как назвал его Вяч.Иванов) и вызовет генерала на дуэль. Она не состоится, к счастью. Но сохранится письмо Хлебникова к Николаю Бурлюку, тоже поклоннику Маринетти. В нем наш герой назовет Кульбина «слабоумным безумцем», а Бурлюка не только «подлецом и негодяем», но уж и совсем оскорбительно — «овощем». Так и напишет: «До свиданья, овощъ!» Правда, через год, когда «небогрёза» превратят даже не в «овощ» — в «тупое животное», он кинется за помощью именно к Кульбину. Пошлет два письма: «спасите!..»
«Русские, — скажет как-то Хлебников, — главным трудом жизни считают доказательство, что они хорошие люди. Русские! Докажите, что вы злые». Впрочем, визитом Маринетти возмутился не потому лишь, что тот воспевал оплеуху, кулак и войну — «единственную гигиену мира». Не знаю уж как, но учуял в нем нечто худшее. То, что тот мимоходом успел сказать Лившицу. «Странные вы, русские, — сказал Маринетти. — Заметив, что вам нравится женщина, вы три года размышляете, любите ли вы ее или нет, затем три года колеблетесь, сообщить ли ей об этом. Вся ваша литература полна этим. То ли дело мы. Если нам нравится женщина, мы усаживаем ее в авто, спускаем шторы и в десять минут получаем то, чего вы добиваетесь годами…»
Вот что нюхом уловил Хлебников, вот против чего бунтовала его «треугольная» душа. Он, для кого любовь была трепетом священным, на фотографию какой-то боярыни в витрине мог глядеть часами (наверняка, на цыпочках!), а уж на живую, милую деву смотрел молча сутками, неделями. Сидел «птицей с опущенными крыльями, — как подглядит однажды Виктор Шкловский, — и смотрел». Только смотрел. Но, думаю, не было любви верней!
«Я вас зарежу!..»
Интуиция у него была звериная, зоологическая. А ненависть, если можно так сказать — химически чиста. Что там выдуманный Воланд Булгакова, если Хлебников иные кунштюки «князя тьмы» легко проделывал в жизни. Я говорю даже не о предсказаниях — о дуэли его с Мандельштамом.
Это был, кажется, первый случай, когда не он — его звали к барьеру. Повздорили в «Бродячей собаке», в поэтическом кафе. Там, кстати, где Мандельштам, ораторствуя недавно, вдруг осекся: «Нет, не могу говорить, когда там молчит Хлебников». Преклонялся! Но когда Хлебников, в пылу спора о деле Бейлиса, позволил себе какое-то антисемитское слово — не стерпел. «Я как еврей и русский поэт считаю себя оскорбленным и вас вызываю! — крикнул Хлебникову. — То, что вы сказали — негодяйство!» Это случилось на глазах Гумилева, Шкловского, художника Филонова. Последние двое и согласились стать секундантами. «Я не могу, — кипятился Шкловский, — убили Пушкина, Лермонтова, скажут в России обычай…» Филонов же, грубо прикрикнув на дуэлянтов («Я буду бить обоих, пока вы не помиритесь!»), вдруг намекнул: повод для поединка ничтожен. По сравнению с его целью. «Какой?» — любопытно сверкнут глаза драчунов. «Я хочу, — скажет Филонов, — написать картину, которая бы держалась без гвоздя». «И как?» — поверит Велимир. «Падает», — ответит Филонов. «А что ты делаешь?» «Я неделю не ем». «И что?» — «Падает». Конечно, рядом с такой «художественной задачей» дуэль показалась мелочью.
Но еще до того случилось нечто и вовсе необъяснимое. Помните, Воланд крикнул Берлиозу, кому трамвай вот-вот отрежет голову — не пора ли дать телеграмму его дяде в Киев? И у того ухнуло: откуда он знает про дядю? Так вот Хлебников, в пылу ссоры тоже вдруг крикнул: «А Мандельштама нужно отправить к дяде в Ригу!» «Поразительно, — ахал потом тот, — в Риге действительно жили два моих дяди. Об этом ни он, ни кто другой знать не могли. Он угадал это силою ненависти…»
Да, ненависть, у поэта была химически чиста. И химически чиста была любовь. А уж если эти «химии» вступали в реакцию, мир грозно умолкал. Скажем, почти всех женщин, в которых он влюблялся, звали Верами. Символично! Их было пять или даже шесть. С одной даже рискнет целоваться. Но человека чуть не зарежет не из-за Вер, из-за Ксаны — Ксаны Богуславской.
Она и ее муж Иван Пуни — их звали «святое семейство» — жили, как и полагается художникам, под крышей. В питерской мансарде. И там, привезя из Парижа «дух Монмартра», учинили настоящий «салон». Маяковский, Бурлюк, Лившиц, Матюшин, даже Северянин, все ходили к ним. Вернее, к ней, Ксане, обаятельной, острой, энергичной. Она, кстати, на свои деньги выпустила сборник «Рыкающий Парнас» (его конфискуют «за порнографию») и, как пишет Лившиц, «забравшись с ногами на диван», подстрекала компанию выступить с манифестом «Идите к черту!». Короче, Ксану ватага любила, но наш «лицедей» — просто влип! Он, вспомнит о нем через полвека почти парализованная Ксана, «сидел, как унылая, взъерошенная птица, зажав руки в коленях, и либо упорно молчал, либо часами жонглировал вычислениями. Воображал, что влюблен в меня, но, думаю, оттого, что я рассказывала о горной Гуцулии, о мавках». Да, с Ксаной связаны многие стихи Хлебникова: «Ночь в Галиции», «Мавка», поэма «Жуть лесная»…. Но правда и то, что реальная «жуть» случилась, когда она шутя нацепила на Лившица свое черное жабо и запретила снимать его. Тот так и разгуливал в нем под бешеными взглядами Велимира, пока однажды, когда Лившиц уж слишком любезничал с Ксаной, он не схватил вдруг скоблилку художников (тот же нож!) и, подбрасывая ее на ладони, не рванулся к нему: «Я вас зарежу!» К счастью, руку перехватили. Но, благодаря вспышке (реакции «химий»!) случилось, как и всегда с ним, нечто невиданное. Все и даже мы, нынешние, обрели и тут же потеряли, может, великого художника. Ибо он кинулся вдруг к мольберту и запрыгал вокруг холста в каком-то заклинательном танце, мешая краски и нанося их с такой силой, словно в руке его был резец. Когда в изнеможении упал на стул, ноздри его раздувались. «Мы, — пишет Лившиц, — подошли к мольберту, как к только что отпертой двери. На нас глядело лицо Ксаны. Я видел перед собой ипостазированный образ хлебниковской страсти». Проще сказать — с портрета глядела обнаженная страсть поэта. Не «дверь отпертая» — сердце. И, словно догадавшись об этом, не дав никому опомниться, Хлебников вдруг густо-густо замазал холст черной краской…
Позже, в Куоккале, на даче Ксаны, он горько пожалуется молодому Шкловскому: «Что нужно женщинам от нас? Чего они хотят? Я сделал бы все. Может быть, нужна слава?» «Море было простое, — пишет Шкловский. — В дачах спали люди. Что я мог ответить?..» А поэт, охладев к Ксане, пропрыгав осень по камням залива, влюбится сразу в двух Вер. Одна, дочь писателя Лазаревского, была точь-в-точь Наташа Ростова, а другая столь хороша, что вся литература не дала ей еще равного образа. Эх-эх, увы, он вновь окажется кукушонком — чужим в теплых гнездах женской любви.
«Я дорожу знакомством с семьей Лазаревского, — напишет домой. — Старый морской волк с кровью запорожцев в жилах». А через месяц увлечется другой Верой — «очаруньей» Верой Будберг. С семьей барона Будберга его познакомит Матюшин, и он станет ходить в дом у залива ежедневно. Будет таскать (как люди) цветы, читать (как поэт) стихи и даже советоваться, как писать их…. Небывалая вещь! «Я сижу рядом с нею, — записывал в тайной тетради. — Вера грустна. На ней вязаная желтая рубашка и вся она хрупкая, утомленная. Я слишком упорно посмотрел на нее, и она поправила край платья. Налила мне вина. «Можно?». Я краснел и смотрел. «Курите, курить мужественно», — сказала. Рассказывала про охоту. «Я выстрелила; заряд попал, ну, в зад зайцу. И я просто не знаю, как взяла его за голову и стала колотить о приклад. Ну, он так кричал, так кричал, просто не знаю»…». В это время к столу вышла мать Веры и, увидев поэта, «выстрелила» уже в него: «Это хорошо — сидеть рядом с невестой: скоро женитесь!» «Как, — задохнулся он про себя, — Вера — невеста? Признаюсь, слезы подступили к горлу…»
Он снова придет к ней. «Я смотрел на эти воздушные волосы севера — облако прически над лицом, большие голубые глаза, похожие на голубой жемчуг, и слушал». И, перебивая себя, напишет: «Радость! На руке еще нет кольца». Настолько воспрянет, что уже вечером обо всем расскажет другу. «Попытайтесь ухаживать, — посоветует тот, кстати, режиссер и драматург Николай Евреинов. — Не действуйте нахрапом, девушку нужно сломить. Чуть что, звоните мне». Плоские эти рекомендации приведут Велимира в восторг. «Мы заговорщики!» — кинется целовать конфидента. А в тетради запишет: «Пил за осуществление самых пылких надежд…» Что было дальше, расскажет тот же Шкловский: «Я разыскал его, сказал, что девушка вышла замуж за помощника отца. Дело простое. Волны в заливе тоже были простые». «Вы знаете, что нанесли мне рану?» — спросит его Хлебников. Тот опять промолчит. И — строка в тетради: «Больше никогда любить не буду…»
«Русь, ты вся поцелуй на морозе!» — напишет о любви. Вот и весь стих. Но, господи, какая там Наташа Ростова, ну какие две Веры?! Ему подошла бы такая же: вольная, сумасшедшая, не от мира сего. Ведь там же, вКуоккале, заночевав однажды у художника Анненкова, он поутру буквально сразит его. «Войдя в комнату, где заночевал Хлебников, — вспоминал тот, — я застал его еще в постели. Окинув взглядом комнату, я не увидел ни его пиджака, ни брюк, и… выразил свое удивление. «Я запихнул их под кровать, чтобы не запылились»», — сказал ему наш герой. «Должен сознаться, — пишет Анненков, — что все комнаты дачи содержались в очень большой чистоте, и если нужно было искать пыль, то, пожалуй, только под кроватью…» Ну, кто, скажите после этого, ну, какая женщина связала бы свою жизнь с таким?..
Он будет еще влюбляться. Даже целоваться еще с одной Верой в ветвях цветущей черемухи. Это Вера будет прятать его от армии, выцарапает из лап белых, но дальше поцелуев дело, кажется, не пойдет и с ней.
Часы века
«Часовщик человечества» звал себя. И что-то от часовщика было в нем. Филигранный труд, уединенность, терпение, перехват дыхания на миг. Только возился не с винтиками и шестеренками — с суффиксами и префиксами, с датами и числами. Не секунды, не минуты интересовали — судьбы, поколения, века. «Люди поймут, — написал, — что есть часы человечества и часы отдельной души». Он жил в такт с человечеством, пока однажды не разошелся с ним. Пока на часах не грянула война. Вот когда взвоет: «Спасите меня!..»
Два этих слова напишет рядовой 93-го запасного пехотного полка генералу. Хлебников — Кульбину. «Я погиб, как гибнут дети», — скажет в стихах про армию, где из него хотели сделать (вы, мыслите?!) прапорщика. Да, его, почетного гражданина Астрахани и, в силу этого свободного от рекрутчины, в 1916-м таки призовут в армию. И он, забыв обиды, нанесенные им генералу-медику, пошлет ему два жалких письма. «Пишу из лазарета «чесоточной команды». Среди 100 человек больных кожными болезнями можно заразиться всем до проказы включительно. Пусть так. Но что дальше? Опять ад перевоплощения в лишенное разума животное, с которым говорят языком конюхов, где ударом в подбородок заставляли меня держать голову выше и смотреть веселее. Как солдат я ничто. Меня давно зовут «оно». Я дервиш, иог, что угодно, но не рядовой…». А во втором письме прохрипит: «Освободите. Заклинаю: ваше мнение будет иметь значение. Если Пушкину трудно было быть камер-юнкером, то еще труднее мне быть новобранцем в 30 лет…»
Кульбин, близкие, друзья добьются освобождения; он вырвется из клетки и, размяв крылья, приземлится под Харьковым, в Красной поляне, на даче у Синяковых. Из ада попадет почти в рай. Там, кажется, и предскажет: мировая война перерастет в «войну внутреннюю». «Дети! Ведите себя смирно, — напишет в 1916-м. — Это только 1,5 года, пока внешняя война не перейдет в мертвую зыбь внутренней войны». Никто не услышит его ку-ку! Наконец, там, у Синяковых, займется давней мечтой — организацией Правительства мира, общества «Председателей Земного Шара». И там не только влюбится в Веру Синякову, но, забравшись с ней на вершину черемухи, будет, кажется впервые (это в тридцать-то лет!), целоваться…
Синяковых было пять сестер. Он знал их три года, еще по Москве, когда все поэты, что ни вечер, похаживали к ним. Сестры приехали из Харькова (распущенные волосы, романсы под гитару, какие-то хитоны, грим — навели косметику даже на мать в гробу — и, заполночь — немыслимые отбивные для гостей). Но, главное — страшные истории. Асеев, Пастернак, Каменский и особо доверчивый Хлебников, слушали их, развесив уши. Лишь Маяковский, приходя к отбивным (то есть, к трем часам ночи), делал вид, что интересуется только картами. Тогда трещали колоды, густел папиросный дым и всё покрывал его бас. Даже любовь — царицу здесь. Пастернак, скажем, без ума влюбился в Надю. Отец устраивал ему скандалы, звал этот дом «клоакой», мать, из-за ночных походов сына сюда, натурально лишилась сна, а он не только писал стихи Наде — три года переписывался с ней. Бурлюк влюбился в Машу, Петников — в Веру, а Асеев даже женился на Оксане. Эта Оксана говорила позже, что именно сестры положили начало обществу «Долой стыд!» Было такое, помните; тот же Булгаков даже в 1924-м запишет в дневнике: «Новость: на днях в Москве появились совершенно голые люди (мужчины и женщины) с повязками через плечо «Долой стыд». Влезали в трамвай. Трамвай останавливали…» Не знаю уж, бегали ли сестры нагишом, но стыд Оксана потеряет точно! Дважды откажет в помощи Цветаевой в 1941-м, за полгода до ее смерти. Потом вытолкнет из дома осиротевшего сына ее и, купаясь в роскоши (Асеев — орденоносец, лауреат Сталинской премии), всю жизнь будет кривить рот о ней: «Разве нормальный человек стал бы вешаться!..»
Это будет. Пока же Хлебников, «ошалев от дикой биографии» сестер, влюбится сперва в Машу, потом сделает предложение Оксане («Как же так, Витя, — скажет она, — ведь я же замужем!»), а позже, под Харьковым, полюбит уже Веру. Именно с ней и целовался в черемухе — за «занавеской» цветов (любое шевеление обрушивало им на головы целый водопад их). И хотя дева первой спрыгнет с дерева и убежит, событие это станет, может, самым счастливым в его жизни. Кстати, другая Синякова, Надя, когда его позже арестуют белые за найденный у него документ с подписью Луначарского, пойдет хлопотать за «шпиона» и освободит его. Недаром он посвятит сестрам тьму стихов и даже некоторые поэмы. Но счастья в его жизни, повторю, больше, кажется, не будет.
«Я боюсь за тебя, — написала ему как-то поэтесса Елена Гуро. — Я боюсь, как бы тебя не обидели люди». Не зря писала. По сути, вся жизнь его — сплошная обида от непонимания, непохожести, неумения приспособиться. «Я твердо знаю, — писал он, — рядом нет ни одного, могущего понять меня» То, что было важно людям, для него не имело значения, а что считал главным он — не представляло ценности для них. Он мог, например, получив от друзей собранные ему на одежду деньги, купить себе дорогой портсигар. Мог, собравшись в Казань, отправить багажом корзину рукописей, и — отказаться от поездки. Рукописи пропали. Мог на званом обеде, протянув руку, ухватить за хвост кильку с общей тарелки и медленно, по нарядной скатерти, протащить ее к себе. Чего, дескать, тревожить соседей? Терял вещи, деньги, ложась спать натягивал всё себе на голову и утром вскакивал продрогшим (так и заработает, кстати, лихорадку). Но мог и вызваться идти в Зимний, дать пощечину самому Керенскому, премьеру. За Россию, за «сплошной сквозняк». Его отговорят. Но он, еще до выстрелов «Авроры», все-таки дозвонится в Зимний и спросит: когда же вы, министры, уберетесь из дворца? И не помочь ли вам в этом?..
От всех бед убегал на юг, в Астрахань, в калмыцкую степь. Там, казалось, было гнездо его. Убегал даже от денег — не «делач»! Маяковский, устроив как-то издание стихов его, удивлялся: «Накануне дня получения денег, — скажет, — я встретил его на Театральной с чемоданчиком. «Куда вы?» — «На юг, весна!..»» — свистнул беспечно Хлебников и уехал. На крыше вагона.
Да, куковал без денег, не ценил вещей. Ценил скорее символы: дудку из тростника, куклу тряпичную, деревянную игрушку из Сергиева Посада (с ней, говорят, и умрет), какое-то дешевое колечко, которое ему дали и тут же отняли. Это случилось в Харькове, где он застрял после революции. На его беду туда явятся вдруг Есенин и Мариенгоф. Эти бежали из голодной Москвы, мечтая «о белом хлебе, сале, сахаре, о том, чтобы хоть недельку поработало брюхо». Разыскали Хлебникова; он жил в какой-то старой мастерской. Явились: один в меховой куртке, другой в элегантном английском пальто. А Хлебников, в штанах, сшитых из занавески (да, да!), сидел на голом матрасе и чинил сапог. Мариенгоф пишет: «Он встал навстречу и протянул руку с щиблетой. Я, улыбаясь, пожал дырявую подошву». Короче, зная, что Хлебников объявил себя Председателем Земного Шара, москвичи решили подшутить: устроить вечер в городском театре и торжественно «короновать» его. Хлебников, дитя, принял всё всерьез. В холщовой рясе, босой, он стоял на сцене со скрещенными на груди руками, выслушивал акафисты и после каждого, как было условлено, шептал: «Верую…» «В заключении, — пишет Мариенгоф, — как символ земного шара надеваем ему на палец кольцо, взятое на минуточку у четвертого участника — Бориса Глубоковского». А когда занавес упал, тот, лыбясь, подошел: «Снимай кольцо». Хлебников испуганно глянул на него и спрятал руку. «Брось дурака ломать, — зарычал Глубоковский, — отдай кольцо!» Москвичи за кулисами подыхали от смеха. «Это… это Шар… символ шара, — губы Хлебникова побелели. — Я… вот… меня Есенин в Председатели…» Но шутник, потеряв терпение, грубо, с кровью содрал кольцо. У Хлебникова чуть слезы не брызнули. От боли, конечно. Разумеется, от боли…
Доски судьбы
«Трудно тебе умирать?», — спросила его за день до смерти Фонка, няня, жившая в деревенском доме художника Митурича. «Да», — ответил он. Это было последнее слово «короля слова» на этой земле.
А за пять дней до смерти на окно глухой бани, где умирал поэт — в сорока километрах от ближайшей станции — прилетел ворон. Клюв его стучал о стекло, как метроном из преисподней. Птица прилетела к птице, ворон — к кукушонку. Да, он, гениальный поэт, Председатель Земного Шара, автор законов времени и космоса, остался кукушонком — чужим не только в гнездах поэтических салонов и ученых собраний, в домах друзей и любимых, он оказался (это трудно и произнести!) чужим в необъятном гнезде Родины.
За два месяца до смерти сказал Мандельштаму, что не хочет уезжать в глушь, куда тянет его Митурич. Но жить негде. Мандельштам, деливший с ним в те дни жалкую кашу свою, кинулся к Бердяеву, тогда председателю Союза писателей. Перед Хлебниковым, кричал, «блекнет вся мировая поэзия, он заслуживает комнаты хотя бы в шесть метров». Увы, Бердяев был бессилен. И поэт, не излечившийся еще от малярии, уехал в Санталово, в Новгородскую губернию, к Митуричу, где у того была жена, корова и огород. Уехал умирать. Ему было как раз 37, столько же, сколько Пушкину и Байрону в час смерти.
«Когда будущее становится прозрачным, теряется чувство времени, — объяснял он за три месяца до смерти открытый им закон времени, — кажется, что стоишь неподвижно на палубе предвидения. Чувство времени исчезает, оно походит на поле впереди и поле сзади, становится своего рода пространством…» Это было сказано в унисон с Эйнштейном, и только ныне мы подбираемся к доказательствам этого феномена. Но у поэта впереди были лишь поле у Санталова и смерть, а позади — поле упорного труда, ростки небывалых открытий и урожай чудных предвидений. Одна идея Всемирного правительства чего стоит — общества «Председателей Земного Шара»?
Мысль родилась весной 1914 года, когда он написал Каменскому: «Все готово. Мы образуем Правительство Председателей Земного Шара. Список присылай». И сформулировал задачи Правительства: «Преобразование мер. Преобразование азбуки. Предвидение будущего. Исчисление труда в единицах ударов сердца», поясняя, что интернационал людей мыслим через интернационал идей наук. Только людей теперь делил не на «словачей» и «делачей» (сволочей!) — на изобретателей и приобретателей. «Пусть Млечный Путь расколется на изобретателей и приобретателей, — писал в Декларации. — Мы зовем в страну, где говорят деревья, где научные союзы, похожи на волны, где время цветет как черемуха, где человек в переднике плотника пилит времена на доски и как токарь обращается со своим завтра». Обвинит «приобретателей» в гибели Пушкина и Лермонтова, в травле Гаусса и Монгольфье, в непризнании Лобачевского. «Вот ваши подвиги!» — и подпишется: «Король Времени Велимир 1-й». А в Председатели, помимо Каменского, позовет Вяч. Иванова, Флоренского, Кузмина, Маяковского, Асеева, Малевича, Татлина, Кульбина, каких-то летчиков Кузьмина и Михайлова, посла Абиссинии Али Серара и даже одну из Синяковых. Собирался привлечь Горького, Тагора, Нансена, Уэллса и самого Вудро Вильсона — 28-го президента США. Не успел.
Гений, фантаст, утопист! Писал чудновато, а уж что мыслил про себя — за занавеской! — этого мы и не узнаем уже. А и узнали бы — не поняли. Он вещал, что мировую войну надо закончить полетом на Луну, что надо создать общий для человечества язык, что озера на земле нужно превратить в котлы пусть сырых, но «озерных щей» и ввести, вообразите, обезьян в семью человека — дать «некоторые гражданские права». Бред, скажете? Возможно. Но так была устроена его голова. Так вообще устроены головы гениев. И я не особо удивился, когда еще в 2008-м прочел вдруг в «Известиях», что в Испании, представьте, уже подготовлен закон о предоставлении обезьянам («зоопарковым» — их 300 пока), прав, сопоставимых с правами человека. «Это исторический шаг, — говорилось в преамбуле закона. — Обычные законы о гуманном обращении с животными не решают проблему», не запрещают «пытки, содержание в неволе, опыты и насильственную смерть». А ведь эта идея Хлебникова, от которой современники ну просто выкатывали зенки! Да и мы еще буквально вчера — выкатывали!..
Впрочем, это не всё! Хлебников уже тогда толковал о пульсации мира: солнца, атомов, электронов и утверждал, что когда пульсацию измерят, откроют волновую природу электрона. Через два года после его смерти, в 1924-м, физик Луи де Бройль откроет именно эту — волновую природу электрона. А пульсацию солнца ученые установят вообще в 1979-м, через 60 лет после Хлебникова. «Теперь так же легко предвидеть события, как считать до 3-х», — напишет «часовщик человечества» в выведенных им «Законах времени». И считал! За шесть лет предсказал войну с Германией, за четыре года революцию, за полтора — войну Гражданскую. Потом, заметив, что никто не слушает его, стал «столбить» пророчества. Жива, скажем, редкая бумага, выписанная ему в Баку. «Настоящее удостоверение выдано в том, что он 17 декабря 1920 года читал доклад «Опыт построения законов времени», причем указал, что 21 января 1921 года должно возникнуть Новое Правительство». Невероятно, но ровно 21 января 1921-го года, был образован Советский Азербайджан — дата эта станет даже официальным днем республики…
В год смерти, в Москве, заглядывая в свое будущее, написал: «Я умер и засмеялся. Большое стало малым, малое большим. Просто во всех членах уравнения бытия знак «да» заменился знаком «нет». И я узнавал вселенную внутри моего кровяного шарика. Все остается по-старому, но только я смотрю на мир против течения». Он вообще-то и смотрел, и жил против течения всегда — «Поперек времени» (как называлось одно из самых сложных произведений его), поперек всего, поперек, главное, обычных представлений о людях. Он не замечал, что костюм его, из-за свалявшегося сукна, стал скорее оперением, что рукава рубашки разорваны до плеч. В последний раз приехал в Москву из Баку зимой в одной рубашке, в каких-то опорках и с наволочкой, набитой рукописями. Фасонистые уже поэты, рядом с ним чувствовали себя неуютно. Но разве расскажешь всем, что на юге он побывал в психушке (ради куска хлеба выдавал себя за трубача в клубном оркестре), был принят деникинцами за шпиона, потом, напротив, угодил в ЧК (комиссар «чеки», написал, «из всех яблок больше всего любит глазные»). Что под Хасавюртом, был ограблен и на полном ходу выброшен из поезда, что месяц мерз в теплушке с эпилептиками, где его и раздели до последней рубахи.
В Москве Маяковский, Каменский, Крученых кое как приодели его и повели выступать в нынешний Архитектурный институт. Тут горланили ничевоки, презантисты, биокосмисты, конструктивисты, ерундисты (в эту группу входил только один поэт — Серафим Огурцов) — в Москве было уже 49 литературных школ и 2 тысячи поэтов. Но такой как Хлебников был единственным — таких и дальше не будет. Над сценой висел огромный портрет Маяковского, быстро сделанный шустрыми вхутемасовцами. Кумир революции! А ведь еще утром того дня Крученых, играя с Маяковским в карты, крикнул ему: «Вот ты, Витя, насчет всяких битв делаешь вычисления, сделай вычисления на какие карты ставить». Маяковский кивнул: «Да, да, Витя. Что там было у египтян, нас мало интересует. Если сделаешь вычисления, каждый вечер будешь получать червонец». Это он-то, кто еще недавно вздыхал: «Если бы я умел писать, как Витя». Может, потому, там, в Санталове, когда Митурич кинулся писать письма о помощи умирающему, сам поэт строго запретил ему обращаться к «Маяковскому и К». Сказал уже о Бриках: «У них жесткие зубы…»
Собственную смерть предсказал в деталях. За девять лет до нее напечатал странный стих «Памятник». «Уткнувши голову в лохань я думал: кто умрет прекрасней? не надо мне цветочных бань и потолке зари чуть гаснущей про всех забудет человечество придя в будетлянские страны лишь мне за мое молодечество поставит памятник странный». Ни точек, ни запятых. Тряси — не тряси головой, мы ничего бы не поняли, если бы он не умер как раз в деревенской бане, куда местные жители, ему, умиравшему, несли и несли цветы (вся баня, пишут, была в цветах!). Более того, умер на заре. И более-более того: на могиле ему, спустя 40 лет (когда прах его перенесут на Новодевичье), действительно поставят «странный» памятник. Каменную бабу из скифского кургана, которому было полторы тысячи лет. Вот его «невеста» («вступил в брачные узы со Смертью и, таким образом, женат») — один из центральных образов его поэзии, у него даже есть поэма «Каменная баба». А у древних народов (фантастика!) эти бабы каменные — символы вечной цикличности, взаимоперехода жизни и смерти…
«Я пропал. Лишился ног. Не ходят, — написал Хлебников знакомому врачу в последнем письме из Санталова. — Хочу вернуть дар походки». На деле, кроме паралича, у него были уже и парез кишок, и гангрена — открытые раны, которые даже не бинтовали уже. Но дар походки он, великий пешеход, «урус дервиш», исходивший всю страну хотел вернуть. Мечтал побывать в Индии, в Польше, нагрянуть к монголам. А еще хотел «писать вещь, в которой бы участвовало все человечество, 3 миллиарда». Ведь «мировая революция требует мировой совести». Наконец, составлял «Доски судьбы» — итог жизни. Но не знал: последней «доской» его судьбы станет лавка в бане, на которой умрет…
На крышке гроба его Митурич вывел голубой краской: «Первый председатель земного шара». Опоздают в Санталово деньги, медикаменты, продукты, собранные друзьями, не дойдет до него американский паек АРА, простоит пустой спецпалата в больнице, приготовленная по приказу самого Троцкого, и не успеет, увы, литерный поезд, которому велено было забрать его в Москву. Гении иначе и не уходят — человечество всегда отстает от них.
А потом опубликуют письма Митурича, и в санталовском еще письме я, через полвека прочту, что после смерти поэта жена Митурича, учительница, долго дивилась и приставала к мужу: «Откуда явился такой простой, — спрашивала, — но прекрасный человек»…
Откуда являются кукушата? Разве не очевиден ответ? Их подбрасывают в чужие гнезда…