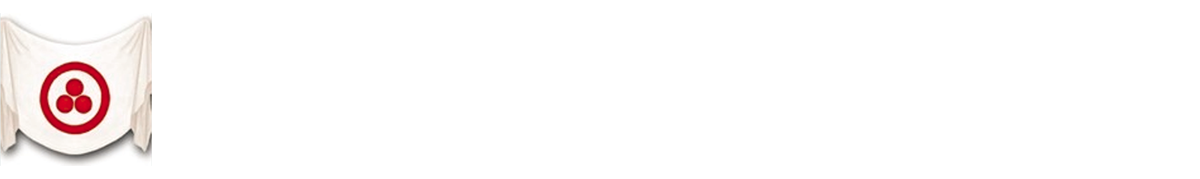Онтология субъективного
ОНТОЛОГИЯ СУБЪЕКТИВНОГО //https://proza.ru/2011/02/09/882Исправленная и дополненная электронная версия издания: Иванов Е.М. Онтология субъективного. — Саратов: Издательский центр “Наука“, 2007. — 200 с. ISBN 978-5-91272-217-2.
Первоначальная электронная версия была размещена в сети в августе 2003 г.
Апрель, 2009 г.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. СТРУКТУРА И СВОЙСТВА СФЕРЫ СУБЪЕКТИВНОГО
1.1. Субъективное и сознание
1.2. Оценка стратегий элиминации сферы субъективного
1.3. Строение сферы субъективного: чувственные образы
и представления
1.4. Строение сферы субъективного: смыслы
1.5. Целостность сферы субъективного: отношение
чувственности и смысла
2. “Я“ И СФЕРА СУБЪЕКТИВНОГО
2.1. Природа индивидуального “Я“
2.2. Временная нелокальность субъективного. “Я“ и личность
3. АФФЕКТИВНО-ВОЛЕВАЯ СФЕРА. ПРИРОДА РЕФЛЕКСИИ
3.1. Природа воли
3.2. Природа аффектов
3.3. Мышление
3.4. Природа рефлексии. Сознание и бессознательное
4. “Я“ И АБСОЛЮТНОЕ БЫТИЕ
4.1. Обоснование антинатуралистического понимания сферы
субъективного. “Я“ и внеположная реальность
4.2 Проявления абсолютного “Я“ в составе эмпирической личности:
свобода и смысл
4.3. Преодоление солипсизма
5. ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
5.1. Критика натуралистических подходов к решению
психофизической проблемы
5.2. Перспективы решения психофизической проблемы
5.3. Сознание в квантовом мире
5.4. О происхождении сознания
ЛИТЕРАТУРА
ВВЕДЕНИЕ
Представления об устройстве человеческой души, ее структуре, фундаментальных свойствах, функции, отношении к телу – восходят к глубокой древности. Это и не удивительно, если учесть, что душа, т.е. субъективное – это то, что непосредственно “дано” и, следовательно, не сокрыто от познающего взора человека. Это обстоятельство заставляет относиться к мнениям древних серьезно. Первые шаги к философскому объяснению и истолкованию субъективных душевных явлений были, видимо, сделаны древнеиндийскими философами. Уже в Упанишадах мы находим глубокие рассуждения о природе человеческого “Я”, о строении сферы субъективного, о связи “Я” и надындивидуального мирообъемлющего целого – “Абсолюта”.
В европейской философии одним из первых исследователей “души” был, несомненно, Платон. Можно указать на четыре фундаментальных открытия, сделанных Платоном в этой области, причем все эти открытия сохраняют свое значение и для современной философии субъективного.
Во-первых, именно Платон первым из европейских философов указал на трехчастное строение человеческой души (чувственность, воля, интеллект) – это разделение с небольшими модификациями используется и в современной психологии. Во-вторых, Платон был первооткрывателем сверхчувственной (смысловой) составляющей душевных явлений. Платоновская “идея”– это, по сути, и есть сверхчувственный (внепространственный, вневременный, бескачественный) смысл, непосредственно присутствующий в составе “непосредственно данного”, “переживаемого” субъектом. В-третьих, Платон, вслед за Сократом, подчеркнул надындивидуальный статус человеческой мысли (как основание общезначимости мышления – пример же этой общезначимости он видел в математике). Это открытое им свойство мышления и послужило основой учения о “мире идей” (topos noetos) – надындивидуальной умопостигаемой реальности, через причастность к которой становится возможной и общезначимость индивидуального человеческого мышления. Наконец, в-четвертых, Платон указал на сверхвременный статус “мира идей” (“идеи” прибывают “в Вечности”) – тем самым, постулируя наличие в душе сверхвременной составляющей.
Представления Платона относительно природы и свойств человеческой души были творчески развиты в школе неоплатоников (Плотин, Порфирий, Прокл и др.) в целостное учение. Основой неоплатонизма является, несомненно, феноменология человеческой субъективности. Ведь душа, по Плотину, есть как бы “срез”, проходящий через все слои бытия: душа причастна и к чувственному Космосу (в форме чувственности), и к мировой Душе (в форме воли), и к мировому Уму (интеллект) и, наконец, к Единому – сверхумопостигаемому и сверхбытийному основанию бытия и мышления. Сама четырехслойная модель реальности неоплатоников, таким образом, – есть результат непосредственного анализа строения собственной души (этот анализ уже на уровне ума выводил за рамки индивидуального сознания – раскрывал строение внеположной эмпирическому субъекту реальности). Вслед за Платоном, неоплатоники подчеркивали значимость сверхчувственного содержания человеческой души, причастность глубинных составляющих души Вечности и Абсолюту. Согласно Плотину, каждой эмпирической индивидуальной душе соответствует ее “прообраз” в составе мирового Ума (“душа – есть единичный логос Ума”) – вечный и неизменный “проект” данного конкретного эмпирического индивида в “уме Бога”. Индивидуальная душа есть, таким образом, эмпирическая “развертка” или “частичная реализация” этого “проекта” — божественного замысла о данной конкретной личности. С нашей точки зрения именно в учении неоплатоников были заложены основы адекватного понимания онтологической природы человеческой субъективности, а также ее отношения к внеположной ей “объективной реальности”. К сожалению, в дальнейшем эти достижения были недооценены и даже частично утрачены.
В семнадцатом столетии, в связи с возникновением математизированного естествознания и связанной с ним механистической модели мира, – существенным образом меняются представления о природе и свойствах человеческой души. В учениях о душе все более преобладает натурализм и механицизм (Т. Гоббс, Б. Спиноза, Д. Гартли, Дж. Пристли, Ж. Ламетри и др.). Душа уподобляется некой “психической машине” (Д. Гартли, Ж. Ламетри), а также обособляется Декартом в некую замкнутую в себе “сферу” – в связи с чем возникает неразрешимая проблема существования “вещи в себе” за пределами сознания. Таким образом, характерная особенность учений о душе философии Нового Времени – это, помимо натурализма и механицизма, также и предельное заострение субъект-объектной проблемы, утрата идеи органичной связи души с надындивидуальной мироосновой.
Другая крупная потеря – это утрата платоновской интуиции “сверхчувственного”. В результате душа мыслится философами 17 –18 веков как своего рода “сцена”, наполненная преходящими, непрерывно сменяющими друг друга “впечатлениями” и “представлениями” (Дж. Локк, Дж. Беркли, Д. Юм и др.). Эта “сцена” лишена какой-либо “глубины” (смысла, контекста), отсутствует реальная связь между сменяющими друг друга дискретными психическими феноменами (т.н. “психологический атомизм”). Так, Д. Юм не находил в душе ничего, кроме единичных, обособленных друг от друга “перцепций” и представлений, причем последние мыслились им как “ослабленные копии” перцепций. Утрачивается также интуиция “сверхвременности” души – в результате ставится под сомнение тождество “Я” (а, следовательно, и само существование “Я” (Д. Юм)) и реальное единство души во времени. Душа, по Юму, в каждый момент времени — это лишь “пучок ощущений”, сменяемый в следующий момент другим “пучком ощущений”.
Можно отметить, однако, и ряд позитивных достижений философии Нового Времени. Это введение Дж. Локком понятия о “рефлексии” (“наблюдение ума за собственной деятельностью”), открытие Г.В. Лейбницем “бессознательного” психического содержания, его же учение об “апперцепции” (восприятии с пониманием) и его представление о душе, как о “монаде”, в которой “в свернутой форме” представлен Универсум, данный, однако, в каждой монаде в определенной индивидуальной перспективе. Лейбниц вообще один из немногих философов-классиков, в построениях которого важную роль играли идеи себетождественности и уникальности индивидуального “Я”.
Дальнейшее развитие философии субъективного в 19 – 20 столетиях осуществлялось в нескольких направлениях. С одной стороны, усилиями целого ряда философов конца 19 начала 20 века в той или иной мере воскрешаются платоновские интуиции относительно природы и свойств человеческой субъективности. Так, А. Бергсон заново открывает “сверхвременной” аспект психического бытия. Э. Гуссерль восстанавливает в своих работах платоновскую интуицию “сверхчувственного” и заново утверждает надындивидуальный статус содержания человеческой мысли. Важнейшее нововведение рубежа веков – идея “интенциональности” — как способ решения проблемы “трансцендентного предмета знания” (Ф. Брентано). (Впрочем, термин “интенциональность” в сходном смысле употреблял еще св. Фома Аквинский).
Следует особо подчеркнуть значение исследований природы сознания (души, субъективного) в русской философии конца 19 начала 20 столетия. Именно в русской философии (конкретно, в философии всеединства) наиболее полно воскрешаются и творчески развиваются главные принципы “платоновской” модели человеческой субъективности. На работы российских авторов мы более всего опирались и при разработке собственной концепции субъективного. Особо следует выделить такие идеи российских философов, как сверхвременность “Я” (учение о сверхвременной основе души человека обосновывается в работах Л. Лопатина, В. Соловьева, Ф. Франка, Л. Карсавина, Н. Лосского, Е. Трубецкого, В. Зеньковского, В. Вышеславского), различение “метафизической” и “эмпирической” личности (В. Соловьев), истолкование смысла как “места” осмысляемого предмета в составе совокупного действительного и возможного бытия (всеединства) (В. Соловьев), идея потенциальной природы смысла (С. Франк), а также идея укорененности индивидуальной субъективности в надындивидуальной всеединой реальности – в Абсолюте (практически вся русская религиозная философия, особенно – философия всеединства). Многие из этих плодотворных идей, однако, не были в достаточной степени разработаны (особенно это касается онтологии смысла, – которая лишь штрихами была намечена в работах В. Соловьева и С. Франка). Наиболее значительная отечественная работа, посвященная исследованию человеческой субъективности – это, безусловно, книга С.Л. Франка “Душа человека”, которая была издана в 1917 году и до сих пор не потеряла актуальности.
В западной философии первой половины и середины ХХ столетия, с одной стороны, возобладала тенденция элиминации сферы субъективного (Л. Витгенштейн, Д. Смарт, Д. Армстронг, Г. Фейгл, Р. Райл, К. Гемпель, П. Фейерабенд, Р. Рорти и др.), а с другой стороны, было продолжено продуктивное исследование структуры и фундаментальных свойств человеческой субъективности. Прежде всего, здесь нужно отметить глубокое и содержательное исследование сознания Ж.П. Сартра, а также работы М. Мерло-Понти по феноменологии восприятия.
Современный этап развития философии субъективного характеризуется, как уже отмечалось, “реабилитацией” проблемы субъективного — даже в постаналитической философии. Большую роль здесь сыграли работы С. Крипке, Дж. Серла, Д. Чалмерса, Х. Патнема, Д. Фодора, Н. Блока – в которых убедительно была показана принципиальная нередуцируемость “ментальных терминов” (а, следовательно, и субъективных феноменов). Существенную роль в “реабилитации” субъективного сыграла, также, “когнитивная психология”, сделавшая предметом экспериментального исследования “внутренние репрезентации” внешнего мира в сознании человека.
Современные исследования “проблемы сознания” сосредоточены на таких вопросах, как психофизическая проблема, природа чувственных качеств, проблема интенциональности, отношение сознания и бессознательного, проблема целостности сознания. Одно из быстро развивающихся направлений – исследование “функции сознания”. Это направление тесно связано с проблематикой т.н. “искусственного интеллекта”, в частности, с вопросом о соотношении “естественного” и “искусственного” интеллекта. Можно, в частности, особо отметить недавнюю дискуссию по вопросу о “вычислимости” функции сознания, инициированную публикациями Р. Пенроуза.
Отдельно следует рассмотреть развитие в ХХ столетии теории смысла. Смысл – одно из ключевых понятий теории субъективного. Основная проблема здесь, с нашей точки зрения, — это объяснение способа существования смысла как субъективного явления, т.е. способа его переживания, обнаружения в составе сферы субъективного, а также объяснение отношения смысла к другим субъективным феноменам. Однако именно этот аспект проблемы смысла оставался за пределами основного русла исследований. Проблема смысла до последнего времени разрабатывалась в основном в рамках логических исследований. Дело в том, что в каждой логической системе вместе с принятием определенного формального языка явно или неявно предполагается и некоторая концепция смысла. Эта концепция определяет способ формализации в данной системе смысловых отношений, выраженных в естественном языке. Смысл здесь исследуется в весьма узком аспекте – как смысл высказываний, сформулированных на некотором естественном или искусственном языке.
Впервые логическая теория смысла была предложена Г. Фреге еще в конце 19 столетия. Большой вклад в логический анализ смысла внесли Б. Рассел, Р. Карнап, В. Куайн, С. Крипке, М. Даммит, Х. Патнем, Дж. Моравчик, Е.К. Войшвилло, Р. Монтегю и др. Эти исследования, раскрывая содержательную сторону и структуру смысла, однако, мало что дают для понимания смысла как субъективного явления. Тем не менее, проблема субъективной данности смысла была частично затронута в работах иного направления, в частности в работах С.Л. Франка, Ж. Делеза, А.Ф. Лосева, Г.П. Щедровицкого, Д.А. Леонтьева, А.В. Смирнова.
Весьма значительный пласт философской литературы посвящен проблеме природы воли и аффектов. Наиболее разработанная в мировой философии тема – это проблема “свободы воли”. Весьма хорошо изучена психология аффектов. Однако лишь немногие исследователи рассматривали вопрос о самой природе воления и аффекта – как феноменов сферы субъективного. Здесь, пожалуй, можно лишь вспомнить неудачную попытку В. Джемса и К. Ланге свести эмоции к соматически детерминированным чувственным переживаниям. Гораздо более интересной нам представляется попытка интерпретации волений и аффектов как специфических поведенческих интенций (С. Хемпшир).
Наименее разработанная тема философии субъективного – это проблема природы индивидуального “Я”. В свое время Д. Юм поставил под сомнение факт существования индивидуального “Я” как специфической онтологической реальности. Он также первым пытался истолковать проблему “Я” как проблему “грамматическую”, а не онтологическую. Этот юмовский скептицизм в отношении реальности “Я” надолго затормозил исследования в этой области. Тема “Я”, однако, всплывает в контексте кантовской философии. По Канту, существование “Я” есть условие “трансцендентального единства апперцепции”, т.е. существование “Я” рассматривается как априорное условие единства опыта, что делает познание вообще возможным. Эта идея связи “Я” с проблемой единства (прежде всего, временного) сознания – представляется весьма продуктивной. Однако эта идея требует онтологического обоснования – указания реального фактора в составе сферы субъективного, обеспечивающего временное единство переживаемого.
В современных работах проблема “Я” трактуется преимущественно в чисто психологическом ключе – как проблема “самосознания”. В частности, как проблема развития самосознания. Такой подход, с нашей точки зрения, не вполне адекватен исследуемому предмету, уводит в сторону от понимания подлинной сущности проблемы “Я”. Этот подход, в частности, ничего не дает в плане понимания онтологической природы “Я”, не позволяет конструктивно раскрыть проблему тождества “Я”, а также исследовать отношения “Я” к другим субъективным феноменам.
Резюмируя сказанное, можно сделать вывод, что, несмотря на огромную литературу, посвященную теме “сознания” и “субъективного”, тем не менее, не существует полной и всеобъемлющей теории человеческой субъективности (основанной на данных интроспекции), которая бы систематически, с единых позиций давала описание и истолкование строения, состава, и фундаментальных онтологических свойств сферы субъективного человека. Одна из причин этого – неоднозначность интерпретации “сферы данного” различными авторами, вообще сложность выявления некоторых, особенно “сверхчувственных” компонент субъективного. Эта сложность проистекает из самого устройства субъективной реальности. Дело в том, что присутствие какого-либо содержания в составе душевной жизни не дает автоматически гарантии рефлексивного доступа к этому содержанию, особенно в тех случаях, когда это содержание сверхчувственно. Примером здесь может служить такой феномен, как смысл. Смысл явно присутствует в составе “непосредственно переживаемого”, он дан нам опытно. Это, однако, не мешает многим философам отрицать реальность смысла, не препятствует возможности для большинства людей “не замечать” этого вполне очевидного смыслового содержания собственного сознания. Роль философии в исследовании сферы субъективного видится в том, чтобы подвести наш разум к осознанию наличия в нас того, что всегда в нас содержится, всегда “стоит перед глазами” – и именно в силу этого, как правило, не замечается.
Существенная ошибка, которая очень часто допускается при анализе душевных явлений – это навязывание субъективным явлениям той формы, в которой нам дан предметный опыт (в частности, пространственно-временной формы). Отсюда, например, проистекает неверное (не подтверждаемое интроспекцией) представление о мышлении, как о последовательном, развернутом во времени, пошаговом процессе, состоящем из отдельных, дискретных операций. Мир субъективного, открываемый нами в рефлексивной установке, принципиально непредметен, существует в особом непредметном модусе бытия. Непонимание этого обстоятельства – ведет к грубым искажениям картины “внутреннего мира”.
Разработка целостной теории субъективного важна не только сама по себе, но также есть необходимый шаг в направлении решения одной из кардинальных философских проблем – психофизической проблемы. Эта проблема, хотя она ставилась еще древними, к сожалению, по-прежнему далека от своего позитивного решения. Создается впечатление, что чем больше мы узнаем о мозге человека, о его функциях – тем меньше мы понимаем, каким образом мозг способен “производить” субъективные явления (если, конечно, он вообще их каким-то образом “производит”). Остроту рассматриваемой нами проблемы придает то обстоятельство, что современные исследования сознания “с научной точки зрения” (прежде всего, с позиций “нейронаук”), по всей видимости, зашли в тупик. Последнее десятилетие ушедшего века было, как известно, объявлено “десятилетием исследования мозга”. В конце 80-х годов высказывались радужные прогнозы, что к 2000 году “тайна сознания” будет раскрыта и раскрыта именно путем исследования нейрофизиологических механизмов психических функций. Этого не произошло. Следует признать, что никакого существенного прогресса в понимании механизмов сознания за последние десять лет не было.
Как уже отмечалось, мы до сих пор не имеем сколько-нибудь ясных представлений о том, каким именно образом мозг обеспечивает высшие психические функции, какие конкретно процессы в мозге коррелятивны “ментальному содержанию” нашего сознания (ощущениям, образам и т.п.). Не ясно даже является ли мозг тем органом, который целиком и полностью определяет факт существования сознания или же он есть лишь элемент более обширной системы, которая и обеспечивает психические функции во всем их объеме. Вполне возможно, что мозг — это лишь “место”, где сознание себя обнаруживает (а отнюдь не то “место”, где оно “производится”). Становится все более очевидным, что не существует какого-либо особого мозгового “центра сознания”, также, как не существует “центра памяти“ или “центра мышления“. Но и мысль, что сознание есть “интегральная функция мозга”, — тоже вызывает возражение.
Сама формула: “сознание есть функция мозга” сталкивается с логическими трудностями. Заметим, что априори вообще не существует никакой логической связи между работой мозга и субъективными феноменами. Ведь мы вполне можем представить себе, не впадая в противоречие, что те же самые мозговые функции осуществляются обычным образом, но при этом не сопровождаются какими-либо субъективными явлениями. Т. е. это ситуация, когда мозг работает совершенно нормально, а сознание полностью отсутствует.
Чрезвычайно трудно понять, почему одни нервные явления сопровождаются сознанием, а другие — нет. Также сложно понять, каким образом качественно однородные нервные процессы способны порождать качественно разнородные модально-специфические чувственные феномены.
По существу, гораздо проще вообще отрицать существование субъективных явлений, чем объяснить их как “функцию мозга”. Поэтому, видимо, и были так популярны во второй половине ХХ столетия так называемые “элиминирующие” концепции, которые отрицали сам факт существования сознания как некой приватной “субъективной реальности”.
Основной причиной той кризисной ситуации, в которой оказались нейронауки, является, как нам представляется, неверное понимание самой природы человеческого сознания. “Научный” подход к проблеме сознания, как правило, явно или неявно предполагает натуралистическое понимание человека и человеческого сознания. Вместе с тем, натуралистическое понимание сознания не является единственно возможным.
“Натурализм” в понимании сознания основан на следующих предположениях:
1. Сознание человека есть некая “выделенная” часть бытия. За пределами “моего” сознания находится то, что называют “объективной реальностью” и эта объективная реальность мыслится как нечто, существующее совершенно независимо от “моего” сознания.
2. Чувственно воспринимаемый нами “материальный” мир — это и есть все то, что реально существует. Следовательно, сознание может и должно быть целиком истолковано в терминах, относящихся к объектам этого материального мира.
3. Из предыдущего пункта следует, что если мы поймем устройство человеческого тела, в частности, устройство мозга, то мы получим исчерпывающее знание о природе человеческого сознания.
Такому пониманию сознания можно противопоставить “антинатурализм”, который основывается на противоположных тезисах:
1. Сознание не есть часть мира. Скорее наоборот: мир есть часть сознания. Никакой реальности, которая была бы абсолютно запредельна сознанию и никаким образом не была бы причастной к моему “Я” — нет и быть не может.
2. Чувственно воспринимаемый “физический” мир не исчерпывает собой всей реальности. За его пределами существует “сверхчувственное”, которое непосредственно доступно мышлению и составляет глубинную основу сознания.
3. Сознание невозможно полностью объяснить, исходя из анализа устройства человеческого мозга. Мозг — это, скорее, “место проявления” или “коррелят”, а отнюдь не орган производящий сознание. Связь мозга и сознания нужно понимать скорее как координацию, чем как причинную связь.
Обращаясь к истории науки, мы видим, что “натурализм” в истолковании сознания имеет относительно недавнее происхождение. Он связан с философским материализмом 17-18 вв., эволюционным учением, со становлением физиологии высшей нервной деятельности и кибернетики. В ХХ веке популярность “натурализма” существенно была стимулирована так называемой “компьютерной метафорой””, трактующей мозг как своего рода “мясной компьютер” (выражение М. Минского), а сознание — как функцию этого “компьютера” (подчиненную некому конкретному алгоритму).
Антинатуралистические теории, напротив, имеют весьма древнее происхождение. Так, практически вся древнеиндийская философия (исключая лишь школу “чарваков”) основывалась на антинатуралистическом понимании сознания. (Особенно это относится к недуалистической веданте Шанкары (8 век по Р.Х.)).
В Европе антинатурализм восходит к Платону и фактически разделялся всеми ориентированными на платонизм философскими школами (неоплатониками в особенности).
В Новое время антинатурализм в понимании сознания представлен “имматериализмом” Дж. Беркли, немецкой классической философией (Фихте, Шеллинг, Гегель), русской религиозной философией (В. Соловьев, С. Франк, братья C. и Е. Трубецкие, Л. Карсавин, Н. Бердяев и др.) и, отчасти, экзистенциальной философией (Ж.П. Сартр).
Главный недостаток современных антинатуралистических концепций сознания видится в полном отрыве от науки и научной картины мира. Антинатурализм, как правило, сочетается с антисциентизмом, т. е. с отрицанием какой-либо онтологической значимости научных концепций. Поэтому подход к изучению сознания в этом случае — чисто гуманитарный, умозрительный. Но это исключает использование антинатуралистических моделей сознания в качестве основания для решения психофизической проблемы (которая, как правило, просто игнорируется).
Задача, которую мы ставим перед собой в данной работе — попытаться совместить антинатуралистическое понимание сознания с научным подходом, в частности, мы попытаемся выяснить, каким образом антинатурализм может способствовать решению (или хотя бы прояснению перспектив решения) психофизической проблемы.
Каким бы образом мы не понимали сознание — в любом случае оно должно быть как-то “спроецировано” в физический мир. Ведь сознание, так или иначе, действует в физическом мире, иначе мы ничего не могли бы сказать о нем, о его содержании. Ведь говорение — это физический акт и то, что проявляет себя в речи, тем самым действует в физическом мире.
Этот вывод, однако, противоречит причинной замкнутости физической картины мира, обусловленной действием законов сохранения. С этой точки зрения любое действие сознания на материю (если только не считать сознание просто некоторой разновидностью материи) должно порождать физические аномалии – нарушение законов физики. Мы, следовательно, либо должны допустить существование таких физических аномалий (а значит и признать, что законы физики не абсолютны и могут в определенных пределах нарушаться), либо должны признать психофизическое взаимодействие некой иллюзией, связанной с особенностью восприятия нашим сознанием физической реальности (эту версию мы подробно рассмотрим в п. 5.3 данной работы).
В любом случае нам потребуется соотнести анализ сознания с физическими концепциями. Но это предполагает, что антинатуралистическое понимание сознания не должно влечь за собой отрицание онтологичности научных построений – мы должны показать, что оно вполне совместимо с представлением, что наука действительно познает реальный мир, а не является просто неким “культурным” феноменом, существующим лишь в силу нашей потребности “привести в порядок” наш чувственный опыт. Но, вместе с тем, антинатурализм в теории сознания предполагает новую интерпретацию самого смысла научных теорий. Можно сказать, что антинатурализм в теории сознания предполагает антинатуралистическое истолкование научной картины мира. Как нам представляется, неклассическая физика дает нам прямой повод для такого рода “реинтерпретации” научного знания.
В данной работе мы рассмотрим основные аргументы в пользу антинатуралистического понимания сознания, представим конкретную модель сознания, рассмотрим следствия, вытекающие из принятия этой модели. Затем мы применим полученные выводы к анализу состояния и перспектив решения психофизической проблемы.
1. СТРУКТУРА И СВОЙСТВА СФЕРЫ СУБЪЕКТИВНОГО
1.1. Субъективное и сознание
Совокупность всего того, что субъект прямо (без какого-либо вывода) обнаруживает, как нечто присутствующее, наличное — образует сферу “данного” этому субъекту или “переживаемого” им. Обозначим эту совокупность термином “сфера субъективного”. Таким образом, сфера субъективного — это совокупность наличного, непосредственно присутствующего для каждого из нас внутреннего (индивидуального, непубличного) бытия — бытия нас самих. (Здесь мы временно оставляем без внимания теории, отрицающие субъективность того или иного данного, например, субъективность чувственных образов или смыслов, или же отрицающих саму возможность существования сферы приватного, непубличного бытия (см.: п. 1.2.)).
Для обозначения этого “внутреннего бытия” субъекта нередко используются также термины “психическое” и “сознание”. Однако, как нам представляется, для того, чтобы избежать двусмысленности, термины “субъективное”, “сознание” и “психическое” следует, по крайней мере в определенных контекстах, различать.
“Психическое”, например, можно понимать не только как индивидуальный внутренний мир субъекта, его бытие “в себе и для себя”, но и чисто объективно — как “механизм”, обеспечивающий наблюдаемое разумное (целесообразное) поведение, что само по себе не подразумевает существование какой-либо “внутренней”, субъективной стороны этого механизма. Чтобы дистанцироваться от такого “бессубъектного” понимания психического, мы далее будем различать психическое и субъективное, и понимать последнее как “внутреннюю сторону” психического, не сводимую к каким-либо его внешним объективным проявлениям.
Необходимость различать сознание и субъективное связана с тем, что сознание, в обычном смысле этого слова, непременно предполагает знание о том или ином содержании сферы субъективного. Если я что-то осознаю, то это означает, что я способен дать отчет себе и другим о наличии в моей субъективности некоторого определенного переживания. То есть осознание предполагает возможность осуществления рефлексивного акта. Сферу субъективного мы определили выше как совокупность “данного”, “наличного”, “непосредственно присутствующего”. Однако простое присутствие в сфере субъективного не гарантирует возможности рефлексии данного субъективного содержания.
Мы вполне можем что-то ощущать, не давая себе отчет о наличии в нас данного ощущения. То есть помимо рефлексируемого содержания субъективного существует нерефлексивное (дорефлексивное, иррефлексивное) субъективное, которое можно, также, обозначить как “бессознательное”.
Поскольку нерефлексивное содержание субъективного — это то, о чем мы не можем дать отчет, не имеем явного знания, то возникает вопрос: как же мы в таком случае вообще способны прийти к заключению, что помимо осознаваемого содержания в нашей субъективности может присутствовать что-то еще? Очевидно, что это возможно, прежде всего, в силу нашей способности к ретроспективному анализу состояний собственной сферы субъективного.
Ограничимся пока анализом чувственных переживаний, например, сферой зрительного восприятия. В каждый момент времени я, как правило, отдаю себе отчет лишь о какой-то малой части совокупного “зрительного поля” — той части, к которой приковано мое внимание. Все остальное существует как некий смутный, нерефлексируемый фон, на котором дан предмет осознанного видения. В момент восприятия я не даю себе отчет о наличии этого фона (иначе он перестал бы быть фоном), но, возвращаясь ретроспективно к данному переживанию, я прихожу к выводу, что фон, именно как фон, все же переживался, каким-то образом присутствовал в моей субъективности. Например, если объект осознанного внимания — это книга, то, возвращаясь ретроспективно к моменту ее восприятия, я могу вспомнить и воспроизвести элементы фона, на котором она мне была дана, например, вспомнить, что книга лежала на столе. Даже если я не могу конкретно описать фон, тем не менее, я уверен в его существовании — в самом деле, не висела же книга в пустоте! Она явно воспринималась на каком-то, пусть даже неизвестном, неопределенном фоне, явно наличном в составе моего субъективного опыта. Следовательно, фон, хотя он первично не осознается, следует все же включить в состав сферы субъективного. Причем включить его именно в тот момент, когда он первично в неосознанной форме присутствовал в моих переживаниях.
Наконец, необходимость различать сознание и субъективное обусловлена, также, фактом существования таких состояний нашей субъективности, в которых осознание (рефлексия) вообще отсутствует. Так, человек не способен полноценно осознавать себя во сне, в состоянии сильного наркотического опьянения, в различных патологических состояниях психики (делирий, онейроид, оглушение). Однако во всех этих случаях, тем не менее, сохраняется то, что можно назвать “внутренним миром” или “субъективным” — поскольку сохраняются какие-то переживания: ощущения, образы, даже нередко и редуцированная возможность осмысления происходящего. Всё это феномены, о которых мы не способны дать отчет в момент их переживания, но которые, благодаря фиксации в памяти, могут быть обнаружены ретроспективно. (Некоторые авторы предпочитают в данных случаях говорить об “измененных состояниях сознания” [197] или о “нерефлексивном сознании”).
Таким образом, термин “субъективное” в данной работе мы будем употреблять как родовое понятие для обозначения любых явлений внутреннего мира человека. С этой точки зрения сознание — это лишь некая разновидность или форма организации субъективного. Она характеризуется рядом свойств, таких как отмеченная выше рефлексивность, а также произвольность (способность к саморегуляции, самодетерминации), способность использования абстракций сколь угодно высокого уровня (это свойство, в частности, отличает человеческую субъективность от весьма вероятно также существующей субъективности животных — хотя животные способны пользоваться абстракциями, но уровень доступных им абстракций всегда ограничен).
Далее, к числу сущностных характеристик сознания можно присовокупить социально-культурную обусловленность содержания и способов функционирования субъективного. Кроме того, обладающая сознанием субъективность непременно участвует в обработке поступающей в мозг сенсорной информации, а также, по-видимому, участвует в планировании поведенческих актов. Она содержит в себе знание об окружающем мире (модель мира) и тесно связана с механизмами “высших психических функций”: мышления, произвольного внимания, произвольной памяти и т.д. В общем же случае сфера субъективного может не обладать ни одним из перечисленных свойств (например, во сне, в случаях патологии).
В данной работе мы не претендуем на создание детально разработанной “теории сознания”. Создать теорию сознания – это значит, в частности, объяснить, каким образом осуществляется восприятие, как человек мыслит, как функционирует память и т.д. Создание такой теории представляется пока весьма отдаленной перспективой и одного философского анализа для решения этой проблемы явно не достаточно. Речь будет идти преимущественно о субъективном как таковом, безотносительно к конкретной форме его организации. (Хотя по понятным причинам мы будем исследовать человеческую субъективность и, таким образом, будем преимущественно иметь дело с “сознательной” формой субъективного. Последнее позволит нам во многих случаях (когда нет опасности возникновения путаницы, т.е. нет необходимости различать рефлексируемое и нерефлексируемое содержание сферы субъективного) использовать термины “сознание” и “сфера субъективного” как синонимы). В частности, мы полностью абстрагируемся от содержательного анализа сознания (какое знание конкретно содержит в себе наше сознание) — к чему часто и сводится так называемая “философия сознания”.
Нас будут, в первую очередь, интересовать самые общие, формальные, инвариантные к содержанию и уровню организации свойства сферы субъективного, т.е. такие свойства, которые в равной мере присущи и напряженной мысли гения, и алкогольному бреду, и сновидению, и усредненному, обыденному состоянию субъективности. (Иными словами, мы будем исследовать сознание “как таковое”, т.е. универсальную бытийную форму сознания, которую мы и обозначаем термином “субъективное”).
Такой подход, как нам представляется, оправдан методологическими соображениями. Создание любой научной теории следует начинать с изучения наиболее общих, фундаментальных (инвариантных) свойств исследуемых явлений. Познание обычно двигается от общего – к частному, от общей картины явления – к отдельным деталям. Также, видимо, следует строить и теорию сознания – начиная с исследования самой общей формальной структуры сферы субъективных явлений, а затем уже перейти к изучению функциональных и содержательных аспектов сознания.
Поскольку мы в данной работе абстрагируемся от содержательной стороны сознания, и исследуем лишь его “форму”, мы можем не принимать во внимание социальные и культурные факторы, детерминирующие содержание сознания. Это ни в коем случае не означает, что мы “недооцениваем” социально-культурную обусловленность сознания. Общество и культурная среда, несомненно, играют решающую роль в формировании конкретного содержания сознания. Но социально-культурные факторы не имеют никакого отношения к самой бытийной форме сознания – субъективности. Сознание, с некоторой долей приближения, можно определить как “знание” – об окружающем мире и самом себе. Содержательно это “знание” детерминировано социальным и культурным контекстом. Но было бы ошибкой попытаться объяснить социальными и культурными влияниями саму форму бытия этого знания. Попытка, к примеру, объяснить с “социально-культурной” точки зрения природу смысла, – очевидно, содержит логический круг, поскольку сама культура – есть не что иное, как система смыслов и, следовательно, прояснить способ существования смысла не может. Ведь существование культуры уже предполагает существование смысла как особой бытийной формы.
Основной вопрос, который мы исследуем, — это не вопрос о том, какое “знание” содержит сознание, как это знание формируется и функционирует, а вопрос: как существует это знание, какова форма его бытия. Эта форма бытия субъективного – логически предшествует любому “содержанию сознания”, поскольку никакого “содержания без формы” быть не может.
Инструмент исследования сферы субъективного – это интроспекция, самонаблюдение. Все доводы психологов относительно “ненадежности” интроспекции – не могут заставить нас выбрать какой-либо другой метод исследования просто потому, что “субъективность” дана исключительно только “самому субъекту” – носителю субъективных переживаний и, следовательно, никаких методов исследования субъективного, кроме интроспекции, просто не существует. В идеале цель “научной” интроспекции – дать “объективную”, непредвзятую картину того, что действительно непосредственно “дано”, переживается субъектом в той или иной форме. Насколько сложно это сделать – видно хотя бы из провала попыток Э. Гуссерля и его школы пробиться с помощью некого универсального “научного” метода (метода “феноменологической редукции”) “к самим феноменам” – т.е. дать абсолютно непредвзятую картину “непосредственно данного”. Вместо единого “научного”, объективного взгляда на феномены – получилась масса противоречащих друг другу описаний, страдающих к тому же крайней субъективностью.
Учитывая неудачный опыт школы “феноменологов”, мы не стремились к абсолютной непредвзятости и теоретической ненагруженности прелагаемых нами описаний субъективных “данностей”. Этого, видимо, в принципе достичь не возможно. Хотя в конечном итоге мы можем апеллировать лишь к субъективной очевидности наличия тех или иных субъективных феноменов, но построить “теорию сознания” на простой констатации различных очевидностей (как предлагал Гуссерль) – невозможно. Необходим еще критический и логический анализ различных “очевидностей”, их сопоставление, работа по соединению различных, интроспективно фиксированных феноменов, в единую целостную, непротиворечивую систему. Иными словами, необходимо создание той или иной теоретической “модели” субъективного. Здесь вряд ли возможно избежать многообразия моделей – отражающих различные теоретические установки их авторов. Однако мы все же надеемся, что построение различных “моделей” сферы субъективного, вроде нашей, — не бесплодное занятие. Опыт развития “научной психологии” показывает, что те или иные “интроспективные” данные могут быть косвенно подтверждены “объективными” методами.
Еще большее значение имело бы позитивное решение психофизической проблемы. Решение этой проблемы позволило бы установить “объективные корреляты” субъективных феноменов – и мы, таким образом, получили бы независимый “ряд данных”, сопоставимых с данными интроспекции, что позволило бы сделать выбор между различными теоретическими “моделями сознания”.
Если бы удалось найти позитивное научное решение психофизической проблемы, то многие существующие философские теории утратили бы всякую актуальность — именно потому, что они, по сути, продукт спекуляции на научной нерешенности проблемы сознания. Также как философский атомизм утратил значение после создания научного атомизма, так и философская спекуляция “о природе сознания” утратила бы свое значение, если бы удалось найти “проекцию” сознания в составе физической реальности. В этом случае философские “теории” сознания (и, вероятно, значительная часть всей традиционной философии) превратились бы в “нормальные” научные гипотезы, которые можно было бы фальсифицировать или подтверждать, пользуясь стандартными методами научного исследования. Учет такой возможности позволяет нам рассматривать изложенную ниже модель субъективности как философскую гипотезу, которая в принципе допускает опытное подтверждение.
С точки зрения логики, интроспективному исследованию сознания должно предшествовать исследование самой рефлексивной способности. Однако понять природу рефлексии невозможно вне контекста той или иной модели сознания (поскольку рефлексия – есть одно из свойств сознания). Поэтому мы вынуждены отложить исследование рефлексии до конца третьей главы – до того момента, когда мы уже выясним основные черты устройства сферы субъективного. Пока же нам остается лишь постулировать, ссылаясь на опыт, что рефлексивная способность действительно существует и дает более-менее достоверные знания о субъективных феноменах.
1.2. Оценка стратегий элиминации сферы субъективного
Прежде чем перейти к систематическому исследованию строения и свойств сферы субъективного, необходимо рассмотреть вопрос: а существуют ли вообще субъективные явления? Вопрос актуален в связи с тем, что существует целые направления в философии (т.н. “элиминирующий материализм”, “логический бихевиоризм” а также, частично, “интуитивизм”) представители которых в той или иной мере (частично или полностью) отрицают реальность субъективных явлений.
Конечно, весьма сложно утверждать несуществование того, что непосредственно “дано”, переживается субъектом. Поэтому стратегия элиминации субъективного, как правило, сводится к тому, чтобы показать, что субъективное “выдает себя не за то, чем оно является на самом деле”, т.е. иными словами, что “непосредственно данное” не следует понимать как имеющее место в некой “приватной”, “субъективной” сфере бытия. Здесь используются два различных подхода. В первом случае пытаются доказать, что то, что мы принимаем за субъективное: ощущения, образы, представления, смыслы и т.п. — на самом деле есть просто физические состояния мозга, которые мы по ошибке или в силу предубеждения принимаем за некую “субъективную реальность”. Такой подход, в частности, используется представителями т.н. “элиминирующего материализма” (Дж. Смарт, Р. Рорти, Д. Деннет, Д. Армстронг и др.) [174, 243,271, 333]. Другая разновидность подобной точки зрения – так называемый “логический бихевиоризм” (К. Гемпель, Г. Райл [163, 298], см. также обзорную работу С. Приста [161]). Здесь то, что мы принимаем за субъективное, отождествляется уже не с внутримозговыми физическими процессами, а с непосредственно наблюдаемыми поведенческими реакциями.
В рамках этих направлений выдвигается требование полной редукции “ментальных терминов”, которые нам навязывает обыденный язык, к “научным” (и тем самым более адекватным) нейрофизиологическим, физическим или поведенческим терминам.
Требование редукции (или “сокращения”) “ментальных” терминов восходит в Витгенштейну, который утверждал (используя знаменитый пример с “жуком в коробочке” [33 с. 183]), что “личные ощущения” и любые другие “внутренние” “ментальные состояния”, как некая “непубличная”, доступная лишь единичному субъекту реальность есть нечто такое, что не может быть задействовано в какой-либо всеобщей языковой игре, т.е., по сути, не может быть предметом обсуждения (личные ощущения есть нечто такое, о чем ничего нельзя сказать). О чем же мы тогда на самом деле говорим, когда употребляем выражения типа “я чувствую боль”, “я хочу”, “я боюсь” и т.п.? Если говорить о “ментальном” невозможно, значит, мы говорим о чем-то другом, общедоступном, “публичном”. Например, истинным предметом говорения могут быть физические или физиологические процессы в мозге. В таком случае отчет о “ментальных событиях” есть просто “иной способ говорения” о каких-то определенных “физиологических событиях”, например, о фактах возбуждения “С-волокон или Р-волокон” [174]. Ментальный язык, утверждают сторонники “элиминирующего материализма”, необходим лишь по причине нашего невежества в области нейронаук (также как использование слова “вода” вместо Н2О — есть следствие нашего изначального незнания химии).
В адрес этой концепции можно высказать, по крайней мере, три возражения:
1. Нет оснований считать, что “ментальное” (субъективное) есть нечто абсолютно замкнутое в себе. Наша субъективность может иметь многослойную структуру и быть замкнутой на одном уровне, а на другом — иметь прямой доступ к “трансцендентной реальности” – которая, таким образом, утрачивает статус абсолютно трансцендентного. (Если воспользоваться примером Витгенштейна, то можно предположить, что наряду с “личным” “жуком в коробочке” существует также “общедоступный жук”, наличие которого и делает возможным разговор о “личных” жуках). Как мы увидим далее, именно так наша субъективность, по всей видимости, и устроена (см. гл. 4). Но в таком случае отпадают всякие основания утверждать, что разговор о субъективном не возможен. Если существует надындивидуальная общедоступная сфера “ментального” — то она, очевидно, может служить “посредником”, позволяющим говорить и о “личном”, “индивидуальном” содержании сферы субъективного, через сопоставление его с “общедоступным”.
2. Сама возможность разных способов говорения об одном и том же должна иметь основания не только в нашем языке или в познавательной способности, но и в самом предмете познания. Уже то, что возможна некая “научная” точка зрения, отличная от “донаучной”, обыденной точки зрения, указывает на многослойную бытийную структуру самой вещи, т.е. на наличие у вещи некой “глубины” или “разных сторон” — что предопределяет возможность наличия разных форм данности вещи познающему субъекту. Если один и тот же предмет дан нам как “ощущение” и как “нейрональное событие”, то, очевидно, дело не только в языке или в нашем невежестве, но и сам предмет должен объективно иметь “две стороны”: “ментальную” и “физическую” — что и обуславливает, в конечном итоге, двойственность нашего говорения.
3. Сведение “ментальных состояний” к физическим состояниям в конечном итоге требует использование “предметного” языка. Если мы объясняем “боль” как “донаучный” способ говорения о возбуждении “С-волокон”, а смысл фразы “возбудились С-волокна” поясняем как иной способ говорения о том, что “возбудились Д-волокна” и т.д., то, в конце концов, мы вынуждены будем прервать эту цепочку и пояснить что такое “волокно” и “возбуждение” используя обычный предметный язык. Но в таком случае всплывают классические проблемы типа: что означает слово “волокно” — некий субъективный образ в сознании, вещь вне нашего сознания, “нейтральный элемент” опыта или что-то еще? Таким образом, данный способ элиминации субъективного оказывается не самостоятельной, замкнутой в себе точкой зрения, но зависит от решения других теоретико-познавательных вопросов — в частности, зависит от решения проблемы статуса “трансцендентного предмета” (см. гл.4).
Отметим, что приведенные аргументы (особенно первый и второй) приложимы в равной мере и к “элиминирующему материализму”, и к “логическому бихевиоризму”.
Исходным пунктом другого способа элиминации субъективного является критика так называемого “удвоения реальности”. Нам говорят, что нет никакой необходимости рассматривать то, что мы непосредственно вокруг себя воспринимаем, как нечто существующее “в голове”. То, что мы непосредственно видим, слышим, осязаем и т.д. — говорят сторонники этой теории, — это никакие не ощущения, а сами реальные предметы внешнего мира и их свойства — как они существуют “сами по себе”, “в подлиннике”.
Одним из первых подобную “экстериоризацию” субъективного осуществил А. Бергсон. Согласно разработанной им “интуитивистской” теории познания, “материя совпадает с чистым восприятием”, она “абсолютно такова, как кажется” и, следовательно, “было бы напрасно придавать мозговому веществу способность порождать представления” [17 с. 202-203].
Это означает, что то, что мы воспринимаем вокруг себя — это не образы, порожденные мозгом, или существующие “внутри мозга”, а сами внешние объекты, как они существуют сами по себе, “в подлиннике”. Психический аппарат лишь входит в контакт, связывается с этими внешними объектами и в результате эти объекты обретают способность управлять поведенческими актами.
“…нервная система не имеет ничего общего с устройством, предназначенным производить или, хотя бы даже подготавливать представления” — писал А. Бергсон, — “функция ее состоит в том, чтобы воспринимать возбуждения, приводить в движение моторные механизмы и представлять как можно большее их количество в распоряжение каждому отдельному возбуждению” [17 с.175].
Таким образом, с точки зрения Бергсона, мозг отнюдь не генератор образов или вообще каких-либо субъективных состояний, а просто некая “рефлекторная машина”. “Субъективное” же — это и есть окружающий нас реальный мир, который не нуждается в каком-либо “дублировании” или “копировании” внутри мозга, он сам выступает в роли своей собственной модели.
Здесь, однако, возникает сложность, связанная с тем, что сфера субъективного состоит не только из образов внешнего мира, но также из представлений, воспоминаний, смыслов, интеллектуальных и волевых актов, эмоций. Ясно, что все это весьма трудно отождествить с внешними объектами — как они существуют “сами по себе”. Для того чтобы решить эту проблему, по крайней мере, в отношении памяти, Бергсон предложил рассматривать воспоминания как непосредственный доступ к прошлым состояниям внешнего мира. Если, к примеру, я вспоминаю свою квартиру такой, какой она была десять лет назад, то я извлекаю образ квартиры отнюдь не из каких-то “хранилищ” памяти, а вижу “в подлиннике” действительное прошлое своей квартиры. Таким образом, по крайней мере, одну из разновидностей памяти — так называемую “память духа” (декларативную эпизодическую память — по современной терминологии) — удается также “вынести” за пределы мозга и “спроецировать” в объективную реальность.
Параллельно с Бергсоном сходную онтологию разрабатывал ученик Ф. Брентано, К. Штумпф, а также Н.О. Лосский и ряд других философов [114, 233].
Как нам представляется, нет особой необходимости детально обсуждать данную стратегию элиминации сферы субъективного, прежде всего в силу ее достаточной известности, тем более что здесь, по сути, полная элиминация субъективной сферы не достигается. Хотя чувственность, память, представления, а также в некоторых версиях “интуитивизма” и даже смыслы, эмоции — выносятся вовне, рассматриваются как свойства “самого бытия”, все равно есть некий “остаток” субъективности: в виде “актов” сознания, — например, актов сравнения, различения, узнавания, внимания и т.п., в виде “направленности” на объект этих актов, в виде отношения к объектам, а также, в виде волевых актов. Следовательно, субъективное здесь полностью не устраняется.
Особый интерес, однако, представляет идея устранения “удвоения реальности”, которая лежит в основе, по сути, всех основных программ элиминации психофизической проблемы. Отказ от “удвоения реальности” мотивируется обычно необходимостью решения т.н. проблемы “трансцендентного предмета знания”, т.е. проблемы существования и мыслимости предметов (реальности) за пределами “непосредственно данного”. Анализ этой проблемы нам придется отложить до четвертой главы, поскольку мы пока не располагаем необходимыми для ее решения концептуальными средствами. Как мы увидим, анализ этой проблемы не только позволит нам определить отношение к “интуитивистской” стратегии элиминации субъективного, но и расширит наши представления о строении самой сферы субъективного. Пока же подведем предварительный итог обсуждения стратегий элиминации субъективного.
Отметим, прежде всего, что тезис о “несуществовании субъективного” противоречит данным непосредственной интуиции, которая, в частности, указывает нам на приватную данность, по крайней мере, некоторых чувственных феноменов (например, ощущения боли). “Несуществование субъективного” противоречит также представлениям современной психологии и физиологии сенсорных систем. Почти вся современная психология восприятия (исключение здесь составляют работы Дж. Гибсона [41]) и вся без исключения физиология восприятие – предполагают репрезентативный характер связи образа и объекта, т.е. предполагают “субъективный” статус непосредственно данного субъекту. (Мы видим “образы” объектов, а не “сами вещи”. Эти образы — продукт сложный деятельности нашей психики, они существуют в некой “ментальной” сфере и не тождественны предметам окружающего нас внешнего мира). Отказ от репрезентативной теории восприятия порождает фундаментальные трудности в объяснении простейших явлений: почему предметы раздваиваются, если нажать на глазное яблоко, почему очки корректируют зрение, почему, надев розовые очки, мы видим предметы розовыми и т.п.
“Элиминирующие теории” – это, с нашей точки зрения, — разительный пример того, как очевидное отрицается во имя сомнительных, предвзятых и упрощенных гносеологических теорий. Не лучше ли усовершенствовать теорию познания, чем отрицать очевидное?
Отметим еще один существенный общий дефект исследований сознания, проводимых в рамках аналитической философии (не обязательно элиминирующего толка). Представители этого философского течения пытаются решить вопрос о природе сознания лишь путем тщательного логического анализа: как ментальных терминов, так и наших суждений о ментальном. Такой подход представляется крайне наивным и не продуктивным. По сути, ни одна научная проблема не была когда-либо решена таким способом. Научные проблемы на самом деле решаются путем накопления новых фактов, противоречащих старым непродуктивным воззрениям, и выдвижением новых смелых гипотез, изменяющих сложившиеся парадигмы и объясняющих с новых позиций эти новоустановленные факты. Нерешенность проблемы сознания и, в частности, психофизической проблемы – есть, с нашей точки зрения, просто следствие того, что какие-то важные факты, касающиеся сознания и работы мозга нам пока не известны (или же частично известны, но не получили должной оценки), а отнюдь не есть следствие каких-либо дефектов нашей логики или языка.
Таким образом, серьезных сомнений в существовании субъективного, на наш взгляд, не существует. Это означает, что мы смело можем приступить к изучению вполне реально существующей сферы собственных субъективных явлений.
1.3.Строение сферы субъективного: чувственные образы и представления
Наша задача в данном и последующем разделах: выделить основные типы субъективных явлений и определить их взаимные отношения.
Анализ строения сферы субъективного разумно начать с описания наиболее очевидного, бесспорного ее содержания. Таковым, несомненно, является “сенсорная” составляющая субъективного, т.е. переживаемые чувственные образы и ощущения различных модальностей, представляющие в субъективной форме “внешний мир”.
Основные свойства ощущений и образов — это целостность (в совокупности они образуют единое “перцептивное поле”), качественная определенность и разнородность, а также более или менее точная локализация в субъективном пространстве и времени. Последнее означает, что ощущения и образы — это ряд субъективных “событий”, постоянно сменяющих друг друга, т.е. форма существования ощущений и образов — это временной “поток” переживаний.
Важное свойство чувственных образов – их непосредственная (данная в самом акте их чувственного переживания) осмысленность. Образ предметен – он сразу отнесен к некой предметной категории (стул, стол и т.п.) — есть образ некого инвариантного, устойчивого, себетождественного предмета и, таким образом, отнюдь не равен сумме входящих в него модально специфических качеств. Иными словами, действительность, данная нам в чувственной форме, структурирована, разделена в самом восприятии на осмысленные целостные единицы – предметы, выделенные не столько по физическим признакам, сколько по их смыслу и значимости для субъекта.
За пределами сенсорных феноменов мы обнаруживаем представления — умственные (ментальные) образы, которые являются более или менее полным подобием сенсорных образов (по содержанию), но возникают в отсутствии сенсорной стимуляции.
Представления разделяются на представления памяти и представления воображения. Кроме того, представления можно разделить на конкретные и абстрактные. Конкретные представления (представления о конкретных предметах) явно обнаруживают родственность чувственным сенсорным образам — прежде всего своим содержанием. Содержательно конкретные представления — это либо непосредственные копии сенсорных образов (представления памяти), либо являются рекомбинациями последних (представления воображения). Однако по форме своего переживания они существенно отличаются от сенсорных образов: видение предмета и воспоминание о нем — далеко не одно и то же.
Специальные психологические эксперименты показывают, что в некоторых ситуациях испытуемый способен перепутать околопороговую сенсорную стимуляцию со своими собственными воображаемыми представлениями [136]. Эти исследования вроде бы подтверждают теорию, предложенную еще Д. Юмом, согласно которой представления есть просто ослабленные копии сенсорных образов. Если принять в качестве первого приближения эту теорию за основу, то необходимо также иметь в виду, что представления отличаются от чувственных образов, по-видимому, не только интенсивностью, но также они изначально обладают различным смыслом. Как правило, за исключением особых ситуаций, мы изначально знаем с чем мы имеем дело: с восприятием, воспоминанием или фантазией. В противном случае мы бы постоянно путали слабые ощущения с собственными представлениями, а воспоминания путали с продуктами воображения.
Абстрактные представления отличаются от конкретных отсутствием части чувственных качеств, имеющихся у сенсорных образов и конкретных представлений. Например, мы можем вообразить движение без движущегося объекта, т.е. без представления его цвета, формы, положения, можем представить цвет без формы или представить, например, “треугольник вообще”, без конкретизации его размеров и величины углов и т.д. (Как известно, Дж. Беркли считал, что все это невозможно и что никаких абстрактных представлений не существует [21]. Когда мы представляем “треугольник вообще”, полагал он, мы на самом деле представляем вполне конкретный треугольник, который, однако, используется нами как представитель класса треугольников. Однако эта точка зрения — не более чем недоразумение. Существуют не только абстрактные представления, но даже абстрактные сенсорные образы. Так, пользуясь “периферийным зрением”, мы можем непосредственно увидеть движение без восприятия формы и цвета движущегося объекта, увидеть цвет без формы и т.п. Аналогичные случаи восприятия отдельных изолированных чувственных качеств (например, движения “в чистом виде”) наблюдаются также в патологии [69]).
Одно из характерных свойств представлений, как конкретных, так и абстрактных, — это их “неопределенность”, “смутность”. Например, вспоминая лицо знакомого человека, я как бы вижу перед собой его облик, узнаю его, но, тем не менее, не могу в точности описать форму носа, подбородка, цвет волос и т.д. Что я имею в данном случае: представление смутное само по себе или же неспособность точно описать вполне определенный “в себе” ментальный образ? Представляется более реалистичным признать, что если я что-то ощущаю как “смутное” (будь то представление или сенсорный образ), то оно таковым на самом деле и является. То есть смутность — это собственное свойство самих переживаний, в частности, почти всех представлений. Если бы это было не так, то нам пришлось бы признать, что представления и чувственные образы даны нам как-то опосредованно, т.е. потребовалось бы ввести образы образов и представления представлений. Отметим также, что существуют и вполне четкие, определенные представления — так называемые “эйдетические образы”.
Рассматривая природу представлений, следует обратить внимание на следующее обстоятельство. Хотя представление переживается нами как некий редуцированный образ, тем не менее, для самого субъекта, этот редуцированный образ, по существу, выполняет функцию полноценного образа. Когда я воображаю знакомое мне лицо, я реально переживаю нечто смутное и неопределенное, в лучшем случае лишь отдаленно напоминающее данное лицо. Однако этот редуцированный образ мыслится мною как полный аналог чувственно переживаемого лица (поскольку я воображаю именно данное лицо, а не его смутное подобие). Это означает, что представления – это, по большей части, некие символы, которые “означают” нечто отличное от того, чем они сами по себе конкретно являются. Они как бы указывают на полноценный чувственный образ — прототип данного представления, не воспроизводя этот прототип полностью. Это как бы “осколок” или “бледное подобие” сенсорного образа, которое, однако, имеет для нас смысл полноценного образа. С другой стороны, мы отдаем себе также и отчет в том, что переживаемое нами — это именно нечто воображаемое, а не продукт сенсорного восприятия.
Эта “символическая” природа представлений дает некоторым авторам (например, Г. Райлу [163]) повод утверждать, что представления вообще лишены всякого чувственного содержания, что, представляя что-либо, мы вообще ничего не ощущаем. Действительно, когда я представляю себе зеленый лист, я ничего зеленого непосредственно не вижу (но это не означает, что и другие люди также ничего не видят в подобной ситуации – все, видимо, зависит от способности субъекта к визуализации). Но, тем не менее, что-то неопределенное, какую-то неопределенную, лишенную всякой цветности форму я в этом случае ощущаю. Этот неопределенный образ, однако, имеет для меня смысл образа “зеленого листа”, не являясь по существу таковым.
Итак, представления отличаются от сенсорных образов в основном меньшей интенсивностью переживания, смутностью, а также, в случае абстрактных представлений, отсутствием части чувственных качеств (таких как цвет, форма, размер, ориентация в пространстве и т.п.). Мы можем переживать изолированно отдельные компоненты, свойства или стороны воображаемого предмета, например, только форму или цвет. (К примеру, если мы переживаем “треугольник вообще”, мы переживаем изолированно свойство “неопределенной треугольности”, т.е. здесь имеет место переживание изолированного неопределенного свойства). Но, вместе с тем, также как и сенсорные образы, представления локализованы в субъективном пространстве и времени (хотя эта локализация также может быть смутной, приближенной). Следовательно, представления также возникают и исчезают, образуют временной поток переживаний.
К числу наиболее важных формальных свойств сферы чувственного можно отнести качественный характер различий между чувственными модальностями и чувственными качествами внутри модальностей. А. Бергсон вообще полагал, что всякие различия внутри субъективной сферы носят качественный характер [18]. Эта точка зрения, однако, представляется преувеличением. Достаточно успешное использование математических методов в психологии, в частности, методов субъективного шкалирования, заставляет признать, что наряду с качественными различиями в сфере субъективного присутствуют и чисто количественные различия, например, различия в интенсивности ощущений одного чувственного качества.
Заметим, что “качественность”, качественная разнородность — это свойство лишь чувственной составляющей сферы субъективного, но, как мы увидим далее, не смысловой ее составляющей. Смыслы как таковые лишены качеств: идея “красного” не красна, идея “холодного” не холодна и т.д.
Если содержание сферы субъективного можно в целом охарактеризовать как “знание” или “информацию”, то качества сами по себе не есть ни “знание”, ни “информация”, а являются лишь, по всей видимости, весьма произвольной формой представленности информации в сознании.
Во Введении мы отмечали, что “качества” в последнее время стали объектом пристального изучения со стороны философов, психологов и физиологов. Более всего обсуждаются два вопроса: 1. Каким образом мозг способен “порождать” качества [262, 349, 350]? 2. Вопрос о возможности “редукции” качеств к каким-либо другим психическим или иным явлениям [302, 262].
Острота первого вопроса связана с тем твердо установленным физиологами обстоятельством, что нервные процессы, связанные с психическими процессами восприятия в различных сенсорных модальностях (зрение, слух и т.п.), качественно однородны (т.е. везде используется один и тот же принцип кодирования информации, во всех отделах мозга генерируются совершенно стандартные потенциалы действия, используются одни и те же идентичные по химическому составу медиаторы и т.п. – независимо от того, с какой сенсорной модальностью мы имеем дело). Каким же образом, в таком случае, возникает качественное различие ощущений в различных модальностях, а также различие сенсорных качеств внутри каждой отдельной модальности? Проблема усугубляется еще и тем, что даже если бы мы нашли качественно разнородные физиологические процессы в нервных субстратах, отвечающих за модально-специфическое восприятие, то это не приблизило бы нас к решению проблемы происхождения качеств. Дело в том, что физическая картина мира, к которой, в конечном счете, апеллирует физиология, вообще не содержит в себе никаких качеств, которые можно было бы сопоставить с сенсорными качествами. Один из основных принципов физического подхода к описанию реальности – это принцип сведения любых качественных различий к количественным. В результате единственным физическим содержанием объективной реальности оказывается (в идеале) пространственно-временная структура. Качествам, таким образом, нет место не только в физиологии, но и в физике.
Детальный анализ затронутого комплекса вопросов возможен лишь в рамках обсуждения общих подходов к решению психофизиологической проблемы, что выходит за рамки темы данной главы (см.: гл. 5). Заметим лишь, что простейшим и наиболее убедительным решением этой проблемы будет утверждение: мозг (его нейрофизиологический его аппарат, по крайней мере) и не является ни каком смысле “производителем” качеств – поскольку психика (субъективность) не является только лишь функцией нейрональных процессов. Существование сенсорных “качеств” предполагает, как минимум, неполноту существующей физической картины мира: физика не полна (не является “теорией всего”), поскольку не учитывает существование сенсорных качеств, которые также реально существуют, входят в состав того, что мы называем “реальность”.
Здесь мы переходим ко второму вопросу о “нередуцируемости” качеств. Есть основания думать, что качества – это совершенно специфические явления, которые невозможно объяснить ни с точки зрения современной физики, ни с точки зрения физиологии, ни с точки зрения культурно-социального подхода. Нередуцируемость качеств современные исследователи обосновывают с помощью различных мысленных экспериментов (“инверсированный спектр” [339], “Мэри — исследователь цвета, живущая в “черно-белой комнате” [302] и т.п.). Эти эксперименты призваны показать, что никакая мыслимая косвенная информация не способна заменить, например, прямое переживание цветовых ощущений (а, следовательно, и ощущений других сенсорных модальностей). К примеру, можно стать крупным специалистом по изучению цвета (как Мэри из примера Ф. Джексона), не видя никогда реальных цветов, кроме черного и белого (Мэри живет в “черно-белой комнате” и не может оттуда выйти). Все эти знания о цвете, однако, не заменят прямого восприятия цвета. (Мэри откроет что-то новое для себя, когда выйдет наружу и увидит реальные цвета).
Нередуцируемость качеств – важный факт, свидетельствующий о невозможности элиминации сферы субъективного, факт, указывающий на реальное существование сферы приватных чувственных феноменов, обладающих своеобразными свойствами, необъяснимыми с позиций современной физики, химии, физиологии или социальных наук.
1.4. Строение сферы субъективного: смыслы
Исчерпывается ли содержание сферы субъективного ощущениями, образами и представлениями? Некоторые философы давали положительный ответ на этот вопрос (например, Д. Юм). Однако это не верно. Наряду с чувственным содержанием в сфере субъективного присутствуют также и внечувственное содержание: желания, стремления, оценки, эмоции, волевые импульсы, наконец, смыслы. В данном разделе мы рассмотрим лишь форму субъективного переживания смыслов.
Предварительно дадим небольшой обзор существующих “теорий” смысла. Сразу же отметим, что рассматриваемые теории по большей части искусно обходят ту проблему, которая нас более всего интересует: проблему субъективной формы переживания смысла. Однако некоторую косвенную информацию о природе субъективного смысла из этих теорий извлечь все же возможно.
Наиболее разработанными являются логические теории смысла (см. обзор логических теорий в [145]). Проблема природы смысла возникает в логике в связи с постановкой задачи формализации логическими средствами тех смысловых отношений, которые имеют место в естественных языках.
Логическая теория смысла была впервые предложена Г. Фреге – и она, по сути, легла в основу дальнейших исследований “логики смысла”. Фреге предложил различать значение знака и его смысл [215]. По Фреге, значение знака – есть денотат, т.е. определенная вещь или совокупность вещей, на которую данный знак “указывает”. Напротив, смысл знака – это то, что отражает способ представления обозначаемого данным знаком. Иными словами, смысл – есть способ указания на денотат. Фреге указывал, что денотат – это “сама вещь” — нечто существующее вне и независимо от сознания, а отнюдь не образ или представление. Смысл, в таком случае, есть нечто “расположенное между денотатом и представлением”, он “не столь субъективный как представление, но и не совпадает с самой вещью” [215 с. 184].
Эта теория содержит массу неясностей. Если смысл указывает на денотат, то возникает вопрос: как осуществляется это указание? Как сознание способно указывать на нечто, что находится целиком за пределами этого сознания? Если я способен указывать на нечто, то это нечто должно быть каким-то образом представлено в моем опыте. Но всякий опыт, поскольку он мне дан, есть опыт субъективный. Следовательно, денотат, если он может быть предметом указания, должен быть каким-либо образом репрезентирован субъекту.
С другой стороны, однако, если денотат – есть некий реальный предмет, находящийся вне познающего, то смысл действительно должен каким-то образом “выпрыгивать” из сознания к самим вещам для того, чтобы субъект был способен “схватить” сам этот смысловой оттенок “внеположности” объекта сфере субъективного.
Нередко проблему “указательной” функции смысла пытаются решить путем введения термина “интенциональность”. Этот термин обычно переводят как “направленность” или “соотносительность”. Смысл при этом отождествляется с интенциональностью, т.е. определяется как способ соотношения сознания с предметом.
Следует отметить, что термин “интенциональность” имеет несколько различных значений. Чаще всего интенциональность определяют как “свойство… ментальных состояний и событий, посредством которого они направлены на объекты и положения дел внешнего мира” [183 с. 96]. Отождествить так определяемую интенциональность и смысл не представляется возможным. Действительно, в соответствии с данным определением не всякое ментальное состояние является интенциональным. Например, я могу сказать: “Во дворе собака” – не имея в виду никакого конкретного двора и никакой конкретной собаки. Это высказывание будет неинтенциональным, но, тем не менее, оно, очевидно, имеет смысл. Смысл, таким образом, не задается только отношением к внеположной сознанию реальности. Он может быть задан и отношением, локализованным целиком внутри самого сознания. Более того, мы видим, что смысл высказывания “во дворе собака” почти не зависит от того, имеется ли в виду конкретная собака или же нет. Таким образом, “указание на внеположный предмет” – есть лишь одна из составляющих смысла, некий специфический смысловой “модус”.
Следует также отметить, что введение термина “интенциональность” само по себе отнюдь не решает самой проблемы “указания на внеположный сознанию (трансцендентный) предмет”. Объяснение данной способности здесь подменяется простым постулированием способности сознания указывать за пределы себя, и это свойство провозглашается сущностным определением сознания. Такой постулативный способ решения проблемы может быть оправдан и вполне эффективен, – но лишь только в том случае, когда рациональное решение поставленной проблемы действительно не возможно. Тогда мы просто говорим: “Таково положение дел, оно парадоксально, но мы должны смириться с этой парадоксальностью”. Но, как мы увидим далее (гл. 4), проблема трансцендентного предмета вполне рационально разрешима и, следовательно, нет никакой необходимость решать ее постулативно – произвольно утверждая интенциональность как сущностное свойство сознания.
Возможно и другое, более широкое истолкование термина “интенциональность”. Э. Гуссерль, в частности, обобщенно определял интенциональность как “соотносительность” [52]. (Здесь, можно, также, привести краткое, но емкое определение Сартра: “интенциональность есть…отрыв от себя” [179 с. 62]). Если “соотносительность” понимать предельно широко – как любое отношение между любыми предметами, то в этом случае смысл действительно оказывается синонимом “интенциональности”. Смысл любого предмета (а смысл, очевидно, имеет любой предмет – не только знак, слово, или предложение, – но и любой из окружающих нас “чувственно воспринимаемых” предметов: стол имеет смысл “стола”, книга смысл “книги” и т.д. – это уже говорит о том, что традиционный “лингвистический” подход к проблеме смысла чрезвычайно заужен) не тождественен с самим этим предметом. Также как смысл слова “собака” не заключен в самом звучании или написании этого слова, так и смысл реальной собаки – не заключен в том, что мы в данный момент непосредственно воспринимаем, т.е. не заключен в самом “образе” собаки, или даже в собаке, как физическом объекте. Смысл любой вещи всегда раскрывается через что-то, отличное от самой этой вещи. Смысл – это всегда есть отношение данной вещи к каким-либо другим вещам.
Существенный недостаток классической теории смысла как “способа указания на денотат” заключается в том, что эта теория предполагает, что смысл знака раскрывается через выяснение способа указания этого знака на некий единичный предмет (или группу предметов). Например, смысл слова “собака” раскрывается через разъяснение способа указания с помощью этого слова на реальных собак. Но знать, что слово “собака” указывает на неких конкретных (или предполагаемых) собак – далеко не то же самое, что знать смысл слова “собака”. Тот, кто действительно понимает смысл слова “собака”, должен еще и знать, что представляет собой реальная собака, то есть знать смысл не только слова “собака”, но и смысл “самой собаки” – как реального существа. Т.е. нужно, помимо указания на собак, что-то еще знать “о” собаках. Смысл предмета, также как и смысл знака, как уже говорилось, не тождественен самому этому предмету. Он как бы присоединяется к предмету “извне”. Предмет является осмысленным, если он указывает на что-то вне себя. Следовательно, атомарный акт “указания на предмет” сам по себе никакого смысла не порождает. Он, по крайней мере, должен сопровождаться актом “указания” на смысл самого указываемого предмета. Иными словами, смысл порождается соотнесением предмета с контекстом, но и контекст осмысляется через какой-либо другой контекст и т.д. Таким образом, смысл может существовать лишь посредством серии (бесконечной?) встроенных друг в друга контекстов. Этот вывод мы далее будем широко использовать в собственной концепции смысла.
Заметим также, что и сам предмет, как нечто себетождественное, инвариантное – существует лишь в силу структурированности нашего восприятия (и представлений) смыслами. Мы видим не комплексы разрозненных, изменчивых ощущений, а целостные стабильные предметные образы, несущие в себе имманентно присущий им смысл. Указание на предмет уже предполагает, что данный предмет сконструирован на основе некого эйдоса – представляет некоторую стабильную предметную категорию и только потому и может служить как целое объектом указания.
Здесь нужно отметить, что аналитической теории семантики существует так называемое “холистическое” направление, представители которого не довольствуются классической “атомистической” концепцией, согласно которой смысл языкового символа определяется целиком и полностью через его отношение к тому или иному атомарному внеязыковому объекту (или группе таких объектов). Подчеркивается, что значение символа определяется также и его ролью в языке. Иными словами, для того, чтобы определить значение символа, необходимо выяснить, как данный символ функционирует во всех возможных языковых ситуациях. Значение каждого символа, таким образом, в конечном итоге, определяется строением и функционированием языка как целостной системы. (Эта точка зрения восходит к поздним работам Л. Витгенштейна, и далее она развивалась такими авторами, как В. Куайн, Д. Деннет, Х. Патнем, Р. Рорти и др.) (см., например, [281]). Такого рода “холизм”, однако, ограничивает сферу формирования и функционирования смысла лишь внутриязыковыми факторами, что, с нашей точки зрения, явно не достаточно для адекватного понимания смысла.
Рассмотрим некоторые другие подходы к пониманию смысла. Мы уже отмечали тенденцию к элиминации сферы субъективного в современной философии. Такой же элиминации был подвергнут и смысл. Мы имеем в виду многочисленные попытки редуцировать смысл к каким-либо “внешним”, “объективным” его проявлениям. Такой подход характерен в частности для прагматизма (Ч. Пирс), лингвистической философии (Л. Витгенштейн, Дж. Остин и др.), операционализма (П. Бриджмен), а также для бихевиористически ориентированной психологии. Смысл в этих случаях целиком определяется через наблюдаемые поведенческие реакции и понимается как некая способность (интенция) к осуществлению таких реакций. Конкретно смысл определяют как “реакцию на знак” (Л. Витгенштейн), “совокупность операций” (П. Бриджмен), “совокупность практических следствий” (Ч. Пирс), “способ употребления слов” (Л. Витгенштейн). Смысл понимается, таким образом, не как “субъективное состояние”, а как “осознанно направляемая и повторяемая деятельность” (П. Бриджмен [258]) в ответ на предъявляемый знак. Такой подход, с нашей точки зрения, верно отображает наличие в составе смысла поведенческих интенций. Но смысл совокупностью таких интенций не исчерпывается. Кроме того, здесь полностью “выносится за скобки” вопрос о субъективной данности (переживаемости) интенций.
В состав смысла могут входить компоненты, которые никакой реакции субъекта не обуславливают, и не могут обуславливать. Например, смысл видимой мною звезды, отчасти, состоит и в том, что когда-нибудь (через много миллионов лет) эта звезда погаснет. Но этот факт никак на мою деятельность повлиять не может. Смысл любой вещи определяется отношением к деятельности субъекта лишь постольку, поскольку вещь имеет какое-то отношение к человеческим потребностям. Но вещь имеет определенный смысл даже в том случае, если она нейтральна по отношению к потребностям. Нужно, видимо, признать, что смысл включает в себя любые отношения между любыми вещами. Тогда смысл вещи – есть просто интегральная совокупность отношений данной вещи ко всем другим вещам – как действительным (наличным), так и вещам возможным.
Все попытки как-либо специфицировать смысл, свести его к отношению какого-либо определенного рода, с нашей точки зрения, – бесперспективны. (В качестве примера такой попытки “специфицировать” смысл можно привести известную концепцию смысла А. Ф. Лосева [112]. Лосев определяет смысл через отношения “тождества” и “различия”. Это, безусловно, очень общие отношения, они действительно существенным образом определяют смысл, но смысл не исчерпывается только этими отношениями. В смысл, в частности, следует включить также и причинно-следственные отношения, а также отношения пространственной и временной смежности, которые, очевидно, не сводятся к “тождеству” и “различию”).
У Фреге можно найти еще одно определение смысла, также широко используемое в “логических” теориях смысла: смысл есть “условие истинности”. Если денотат слова, по Фреге, — это “сама вещь”, то денотат предложения – есть “истинностное значение”. Т.е., иными словами, смысл предложения раскрывается через указание условий, устанавливающих истинность данного предложения. Эта теория практически не дает ничего нового по сравнению с рассмотренной выше концепцией смысла как “способа указания на денотат”. Смысл здесь определяется не через указание на конкретный предмет, а через указание на некую ситуацию, т.е. совокупность определенным образом взаимосвязанных предметов. Недостаток этой теории – это опять-таки ее “атомарный” характер. Смысл раскрывается через отнесение к конкретной ситуации. Но ситуация также имеет некий смысл, который для своего раскрытия требует апелляции к чему-то уже за пределами данной ситуации и т.д.
В некоторых случаях смысл предложения определяется как “информация”, которая в нем содержится (т.н. “информационный подход”). Информация, при этом, понимается как мера ограничения некоторого исходного множества возможностей, обусловленного принятием (в качестве истинного) данного предложения [34]. Если попытаться перевести эту теорию на язык “субъективных данностей”, то следует признать, что представленность смысла в сфере субъективного предполагает репрезентацию в ней исходного Универсума возможностей, а также репрезентацию тех ограничений, которые осмысляемый предмет (слово, предложение, некий чувственно воспринимаемый объект) накладывает на это множество. Заметим, однако, что сознание никогда не находится в состоянии “чистой доски”– не заполненной каким-либо смысловым содержанием. Следовательно, исходное “множество возможностей” – всегда уже каким-то образом ограничено. Это означает, что “новая порция информации”, сопряженная с осмысляемым объектом, может не только ограничивать спектр возможностей, но и открывать новые возможности. Иными словами, процесс осмысления с этой точки зрения предстает как некая “игра возможностей”, как серия ограничений или расширений исходного (Универсального) спектра возможностей. С нашей точки зрения – это наиболее адекватное представление о природе и характере функционирования смысла.
Перейдем теперь непосредственно к анализу субъективной формы данности смысла субъекту.
Заметим, прежде всего, что смыслы не обладают никакой чувственной определенностью. Предположим, что я слушаю непонятную мне речь на иностранном языке. Вдруг в какой-то момент я осознаю, что говорят по-русски, но с очень сильным акцентом. В этот момент появляется смысл, который до этого отсутствовал. Но что при этом изменилось в моем самоощущении? Когда я задаюсь этим вопросом и “всматриваюсь” в себя — я не нахожу никаких явных изменений в своем внутреннем мире — вроде бы все остается по-прежнему и, вместе с тем, с возникновением смысла, мое восприятие речи непостижимым образом радикально изменяется! Получается, что я непосредственно переживаю смысл сказанного, но не знаю, в чем заключается это переживание, не знаю, что я, собственно, переживаю.
Таким образом, смысл как бы одновременно и присутствует и не присутствует в моем сознании, и дан и не дан мне. Нельзя сказать, что смыслы не существуют, поскольку наше восприятие явно осмысленно, наше мышление — есть “порождение” новых смыслов, сама наша личность — это система индивидуальных смыслов, но, с другой стороны, мы не можем отождествить смысл с каким-либо конкретным, явным, актуальным содержанием нашего внутреннего мира. Смысл не сводится ни к ощущениям или образам, ни к представлениям, ни к переживанию отношений между актуальными ощущениями, образами и представлениями. Таким образом, смыслы, наряду с желаниями, оценками, эмоциями, волей, образуют “внечувственное” или “идеальное” содержание сферы субъективного.
Честь открытия “идеального” принадлежит Платону. Он называл идеальные сущности “умопостигаемыми”, “безвидными”, а единичные смыслы называл “эйдосами” или “идеями”. Платон отождествлял эйдосы со смыслами общих понятий, т.е. с универсалиями. Однако, другие платоники, например Плотин, допускали существование и конкретных идей: наряду с идеей “человека вообще” существуют и идеи конкретных людей, например, идея Сократа или идея Аристотеля.
Итак, смыслы есть специфические “данности” сферы субъективного, которые не только не сводятся к каким-либо формам субъективной репрезентации сенсорных данных, но и вообще лишены каких бы то ни было признаков “вещности”: пространственности, качественной определенности, чувственной модальности. (Именно отсюда, видимо, и проистекает весьма распространенная точка зрения, согласно которой смысл как таковой “не существует”. В древности реальность смысла, как самостоятельной онтологической единицы, отрицали стоики (т.н. “концепция лектона”). В ХХ столетии взгляды стоиков пытался воскресить Ж. Делез, по мнению которого смысл есть “поверхностный эффект”, т.е. нечто существующее лишь в качестве аспекта вещного мира и лишенное самостоятельной реальности [55]. В отечественной литературе сходную точку зрения отстаивал Г.П. Щедровицкий, который утверждал, что “смысла не существует, а существует лишь процесс понимания”[234 с. 559]).
Хотя смыслы в момент их переживания не обнаруживают себя в какой-либо определенной форме, мы можем, при необходимости, по крайней мере, частично “развернуть” смысл (например, слова) в совокупность представлений или как-то словесно описать содержание того или иного смысла. (Например, если меня спросят: каков смысл слова “слон”, то я отвечу: это крупное травоядное млекопитающее из семейства хоботных, серого цвета, с большими ушами и т.д., могу также представить себе слона). Рассматривая такого рода “развертки” мы можем заключить, что смысл, в его объективном значении, есть, прежде всего, отнесение осмысливаемого элемента (слова, образа, представления) к прошлому опыту (хотя целью этого отнесения может быть прогноз или установка, относящаяся к будущему).
Как мы отмечали выше, смысл, в самом широком значении этого слова, можно определить как любой “выход” за пределы наличных переживаний, т.е. как “трансцендирование”. Смысл возникает в том случае, когда актуально переживаемое каким-то “сверхчувственным” образом ставится в соответствие с чем-то находящимся за пределами сферы актуальных переживаний. Простейшим актом осмысления с этой точки зрения можно считать узнавание — когда наличное переживание соотносится с аналогичным прошлым переживанием.
Вместе с тем, совершенно очевидно, что явно, актуально отнесение осмысливаемого элемента к прошлому опыту и сравнение его с этим опытом в самый момент переживания данного смысла не осуществляется. Для того чтобы понять смысл, например слова “слон” нет необходимости явно “прокручивать” в сознании всю наличную информацию о слонах. Да и во многих случаях такое “прокручивание” практически не возможно (например, для того, чтобы полностью эксплицировать смысл слова “математика” необходимо просмотреть в сознании содержание всех математических теорий, теорем, доказательств, формул и т.д. — так как именно в этом содержании, как в целом, и заключен полный смысл этого слова). Субъективно мы переживаем смысл слова или какого-то предмета прямо и непосредственно, как говорил Шопенгауэр: “не прибегая к образам и фантазиям”. (Здесь нужно заметить, что “отнесение к прошлому опыту” – это важнейшая, но не единственная составляющая смысла. Даже если никакого опыта в отношении данного предмета не существует, – предмет не лишается смысла полностью. Дело в том, что мы всегда можем нечто предполагать относительно неизвестного нам предмета и, система этих предположений, образует некий “квазисмысл”, который и позволяет нам видеть данный предмет “осмысленным”. Значение этой “мнимой” составляющей смысла мы подробно рассмотрим в дальнейшем (гл. 4). Пока же будем принимать во внимание преимущественно ту компоненту смысла, которая обусловлена “действительной” (т.е. полученной нами в опыте) информацией о вещи).
Можно было бы предположить, что, поскольку, смыслы есть нечто “невидимое”, “неощутимое” — то они лежат за пределами сферы субъективного, за пределами “Я”. Это означало бы, что сопоставление с прошлым опытом на самом деле явно осуществляется, но осуществляется оно целиком за пределами сферы “непосредственно данного”. То есть когда я слышу, например, слово “математика”, где-то за пределами моего “Я” (но, возможно, в пределах моего мозга) очень быстро просматривается все, что содержится в моей памяти по разделу “математика”. Причина “неощутимости” смысла, в таком случае, не в том, что он сам по себе неощутим (в нем нечего ощущать), а в том, что я просто не способен выйти за пределы собственного “Я” и почувствовать то, что за этими пределами находится.
Эта точка зрения представляется нам совершенно неприемлемой, поскольку она низводит сферу субъективного до положения пассивного “экрана”, “сцены”, на которой разыгрывается “пьеса” духовной жизни, смысл которой, однако, целиком находится за пределами этой “сцены” и совершенно недоступен самому субъекту — носителю переживаний. Получается, что “на самом деле” я ничего не понимаю, ничего не решаю, ничего не хочу, ни к чему не стремлюсь. Все это делает за меня и без моего ведома мой мозг, точнее те его части, которые лежат за пределами моего “Я”.
Кроме того, такая точка зрения противоречит интуитивно совершенно ясному переживанию наличия смысла в сфере субъективного именно как чего-то непосредственно известного, наличного, присутствующего во мне во всей своей сверхчувственной полноте. Таким образом, представляется разумным отказаться от идеи абсолютной внеположности смысла по отношению к сфере субъективного.
Но если смысл непосредственно присутствует в сфере субъективного, то его “неощутимость” может быть объяснена лишь особой формой его бытия.
Представляется возможным истолковать природу смысла, используя аристотелевские категории “актуального” и “потенциального” (или “возможного” и “действительного”). Если ощущения, образы и представления — это актуальное, действительное содержание сферы субъективного, то смыслы можно понимать как то, что сфера субъективного содержит в себе как “чистую потенцию”, лишенную какого-либо актуального бытия (даже за пределами сферы субъективного). Напомним, что у Аристотеля “актуальное” и “потенциальное” — это онтологические категории, обозначающие особые формы бытия. Смысл, таким образом, — это особая потенциальная форма бытия.
Категория “потенциального” необходима в философии, прежде всего, для того, чтобы решить проблему отношения бытия и небытия. С одной стороны, еще Парменид указал на внутреннюю противоречивость понятия “небытия”: если бытие — это все сущее, то, помыслив небытие, как существующее, мы тем самым полагаем, что за пределами всего существующего есть какое-то другое сущее, что противоречиво.
Однако с другой стороны, философия не может обходиться без категории небытия — без нее невозможно объяснить ни рождение (переход от небытия к бытию), ни уничтожение (переход от бытия к небытию), ни движение, понимаемое в самом широком смысле. Но в силу противоречивости понятия “небытия”, как чего-то существующего за пределами всего, что существует, необходимо выработать иное понятие небытия — которое находилось бы в пределах бытия. Потенциальное — это и есть, по сути, “небытие, существующее в переделах бытия” – “бытийствующее небытие”. Его можно понимать как нечто промежуточное между бытием и “ничем”, как небытие “чреватое” бытием, несущее в себе возможность бытия. Таким образом, потенциальное — это как бы “неполноценное” бытие, а именно — бытийствующая, онтологически наличная возможность “полноценного”, актуального бытия.
Смысл, как мы его описали выше, по своему онтологическому статусу также есть некое “бытийствующее небытие”: он одновременно и существует и не существует, переживается и не переживается, присутствует в сфере субъективного и не присутствует. Именно поэтому мы и можем истолковать форму бытия смысла как онтологически наличное бытие потенций.
Понимание смысла как “потенциального” не является чем-то принципиально новым в философии. Так, например, у С.Л. Франка смысловой универсум (“идеальная реальность”) – определяется как потенциальная составляющая всеобъемлющего “конкретно-сверхвременного” бытия. “Царство идей” — пишет Франк, — “…есть царство возможностей” [212 с. 272]. Всеобъемлющее бытие, таким образом, оказывается здесь единством бытия действительного и бытия возможного. Смысл, имеющий в этом случае вполне объективный, надличный статус, — это единство всех возможных связей и отношений в составе бытия. Существенное отличие нашей концепции от концепции Франка заключается в том, что у нас потенциальность смысла выражает форму субъективной его переживаемости, форму присутствия смысла в сознании. У Франка же потенциальность смысла используется, прежде всего, для обоснования независимости идеального (смыслового) бытия от действительного (материального) бытия (возможность чего-либо независима и логически предшествует действительному бытию). По существу учение о потенциальности смысла восходит к неоплатонической концепции Нуса (Мирового Ума) как мира конкретно-возможного, т.е. как совокупности потенций (прообразов) чувственного бытия (конкретно-действительного), хотя в свою очередь Нус есть актуализация чисто потенциального Единого.
Определение смысла как “чистой потенции” может показаться парадоксальным. Действительно, как вообще возможно определить смысл через что-то иное, отличное от смысла? Ведь любое определение, объяснение — это тоже приписывание предмету некоего смысла, осмысление его. Таким образом, рассуждая о природе смысла, мы тем самым пытаемся найти “смысл смысла” (или “эйдос эйдоса”). По-видимому, этот парадокс можно разрешить, если предположить, что сама идея потенциальной формы бытия первично возникла именно путем наблюдения за формой существования или, вернее, присутствия в сфере субъективного смыслов. В таком случае, определение смыслов как “чистой потенции” тавтологично, так как “чистая потенция” — означает здесь лишь отрефлексированную бытийную форму самого смысла. В таком случае, “трансцендирование” — это содержательная сторона смысла, а потенциальность — его формальная сторона. Вместе с тем, наша способность рефлексировать структуру собственной сферы субъективного, различать в ней чувственное и сверхчувственное, указывает на то, что существует некий “сверхсистемный фактор”, в котором снимается различие между чувственным и сверхчувственным и, следовательно, не следует потенциальное абсолютно противопоставлять актуальному, абсолютно обособлять эти две формы бытия.
Отметим, далее, что всякая потенция — это возможность перехода одной (наличной) актуальности в другую (возможную) актуальность. Актуальное в сфере субъективного представлено ощущениями, образами и представлениями, образующими в совокупности “субъективную действительность”. Смыслы, таким образом, существуют как совокупность возможностей перехода от наличной субъективной действительности (чувственности) к возможной. В таком случае, переживание смысла — это переживание возможности других (актуальных) переживаний (“предчувствование” других переживаний), а поскольку предчувствуемые переживания также могут обладать смыслом — то и переживание возможности других возможностей.
Выше мы определили (в первом приближении) смысл (в его “объективном” значении) как отнесение осмысливаемого элемента (слова, образа) к прошлому опыту. Непосредственное переживание смысла есть, в таком случае, переживание возможности отнесения данного чувственного элемента к прошлому опыту, т.е. предчувствование возможности “развертки” каких-то фрагментов этого опыта и возможности актуального сопоставления осмысливаемого элемента с этим развернутым опытом. Осмысление, таким образом, есть как бы “трансцендирование в потенции” — не осуществляя “развертки” смысла актуально, мы “проделываем” это “в потенции”, т.е. как бы заранее предвидим, предвосхищаем возможность такой “развертки” (или какого-то другого использования) и переживание такого предвидения — это и есть непосредственное переживание смысла.
Так, к примеру, переживание смысла слова “слон” есть, отчасти, переживание (предчувствование) возможности соотнести звучание этого слова со всей находящейся во мне информацией о слонах. Но этим состав потенций, из которых слагается данный смысл, не исчерпывается. Если, например, я слышу: “слон сбежал из зоопарка”, то смысл этого выражения не исчерпывается отношением этих слов “в потенции” к знанию о том, что такое “слон”, “сбежал” и “зоопарк”. Другая составляющая смысла заключается в предчувствовании моих возможных действий в ответ на это сообщение (прятаться, организовать поимку слона и т.п.).
Ясно, что потенциальная форма обращения к прошлому опыту дает сознанию громадное преимущество — ведь в потенции (в отличие от актуального, временного бытия) мы можем “виртуально” просматривать фактически неограниченные массивы информации за очень короткое время. Таким образом, сознание за счет способности к “трансцендированию в потенции” приобретает способность параллельной обработки практически неограниченной информации (нечто похожее – параллельная обработка информации в “потенциальной форме” — физически осуществляется в недавно изобретенных “квантовых компьютерах” (см., например, [28])) – что, вероятно, и объясняет поразительную эффективность человеческой психики.
Итак, в самом общем плане смысл можно определить как переживание (предчувствование) возможных последствий (условных и безусловных) наличия данного осмысляемого актуального (чувственного) элемента в сфере субъективного по отношению к будущим актуальным состояниям сферы субъективного и в виду ее прошлых состояний. (Или кратко можно сказать, что осмысление — это переживание заложенных в данной чувственности возможностей).
Выше мы отметили, что смысл есть переживание возможности других (актуальных) переживаний, а поскольку они также обладают смыслом, то и переживание возможности других возможностей. Это означает, что каждый конкретный смысл раскрывается через совокупность других смыслов, его определяющих, но и эти другие смыслы также требуют раскрытия через какие-то третьи смыслы и так далее, до бесконечности. Смысл, таким образом, обретает свою “внечувственную” определенность внутри “сети” или “поля” других смыслов. (Сравните у В.С. Соловьева: “…разум или смысл… есть не что иное, как взаимоотношение всего в едином” [193 с. 693]).
Поскольку смысл существует как нечто определенное только в составе единого “смыслового поля”, динамику смысла нельзя представить как некий “поток” изолированных смыслов, в котором одни констелляция смысловых единиц сменяется другой. Динамика смысла может мыслиться лишь как своего рода “переструктурирование” всего, возможно бесконечного, “поля смыслов” в целом. Однако в определенном аспекте динамику смысла действительно можно представить как нечто подобное смене последовательных “смысловых состояний”. В самом деле, смыслы, как потенции, могут различаться в каждый момент времени по степени готовности их к актуализации, т.е. к развертке их в последовательность раскрывающих данный смысл актуальных переживаний (представлений, слов, действий и т.п.). Одни смыслы могут быть актуализированы сразу без каких-либо дополнительных условий — и они, по всей видимости, как раз и образуют “текущее смысловое состояние” сферы субъективного. Другим же смыслам требуются дополнительные условия для их “актуализации” — и они, таким образом, составляют некий “смысловой фон”, какие-то части которого, однако, могут стать “текущим смысловым состоянием” в следующий момент времени.
Если представить “смысловое поле” в виде некоего кристалла, то смена смысловых состояний, включая образование новых смыслов, будет выглядеть как поворот кристалла к актуальному бытию то одной, то другой своей гранью, без изменения самого этого кристалла.
Можно также представить “смысловое поле” как многослойную структуру, в которой “глубина залегания” слоя пропорциональна готовности к актуализации. Смещение этих слоев “по вертикали” в таком случае и создает то, что мы называем движением чистой безобразной мысли.
Эффект “появления” смысла той или иной чувственно переживаемой вещи — есть не что иное, как усмотрение “места” данной вещи в составе единого “смыслового поля”. Задавая иерархию “готовностей к актуализации” различных единиц информации, мы тем самым как бы указываем “место”, откуда должны начинаться развертки цепочек взаимосвязанных смысловых единиц — и тем самым указываем “место” данного образа или представления по отношению ко всем прочим возможным чувственным переживаниям, составляющим в совокупности “смысловое поле”.
Подчеркнем, что субъективно нам дан не только “поверхностный”, непосредственно готовый к актуализации, так сказать “проявленный” смысловой слой, но каким-то образом даны (или, если воспользоваться термином С.Л. Франка, “имеются”) и все “глубинные” слои, все “смысловое поле” в целом. Ведь без его непосредственного присутствия в нашем субъективном бытии утратили бы свою определенность и “поверхностные”, “проявленные” смыслы. (Сравните у Прокла: “Каждый ум мыслит все сразу” [162 с. 120]. Этот афаризм можно интерпретировать так: для того, чтобы явно помыслить что-то одно, нужно неявно помыслить все остальное). С психологической точки зрения присутствие в сфере субъективного “глубинных” слоев “смыслового поля” означает, что “скрытое”, неосознаваемое психическое содержание (информация) обладает способностью так или иначе участвовать в психических процессах (восприятии, мышлении и т.п.), а также способно косвенно воздействовать на поведение субъекта. То, что такого рода воздействие бессознательного на поведение действительно имеет место – не вызывает никаких сомнений – это практически “общее место” в психологии. (Достаточно вспомнить, хотя бы, знаменитый “эффект 25 кадра”, а также такое хорошо исследованное явление, как “установка”).
1.5. Целостность сферы субъективного: отношение чувственности и смысла
В предыдущем разделе мы установили фундаментальное свойство субъективного: наша субъективность состоит из двух онтологически разнородных слоев — актуального и потенциального. Таким образом, можно определить форму бытия субъективного как “актуально-потенциальную”. Подчеркнем, что форма бытия смыслов, хотя они и не актуальны и не предметны, не есть форма “неприсутствия в мире”. Смыслы — это не “дыра” в бытии, не ничто, но возможность действительного, актуального бытия, причем возможность онтологически наличествующая в мире.
Рассмотрим теперь другие свойства сферы субъективного. Прежде всего — это целостность. Субъективное не слагается механически из независимых друг от друга элементов или изолированных областей. Напротив, оно представляет собой особого рода “слитное единство”, в котором лишь условно можно выделить какие-то части или отделы. Эта целостность наиболее наглядно проявляется на уровне чувственных явлений. Целостность “сенсорной” составляющей субъективного проявляется в виде “гештальтных” свойств чувственных образов. Ощущения, чувственные качества существуют не изолированно друг от друга, но образуют единую структуру – “гештальт”, в которой ощущения переживаются вместе с отношениями между ними (сопереживаются). Благодаря целостности, чувственный образ есть нечто большее, чем пространственно-временное распределение чувственных качеств, что, в частности, наглядно проявляется в восприятии так называемых “двойственных изображений” (см., например, [173]) — когда в одной картине, в одном пространственном распределении цветных пятен можно попеременно увидеть два совершенно различных по смыслу изображения (например, белую вазу на черном фоне или два обращенных друг к другу черных профиля на белом фоне). В этом случае то, что присоединяется к пространственному распределению пятен — это и есть “целостная структура” или гештальт.
Используя метод тахистоскопического предъявления изображения, психологи выяснили, что чувственный образ формируется по принципу “от общего — к частному” (см.: [72]). При ограничении времени восприятия сначала схватывается общая структура целого, а затем, при увеличении времени экспозиции, воспринимаются и отдельные детали. Отсюда можно сделать вывод, что образ есть нечто первичное, тогда как ощущение (изолированное чувственное качество) — есть продукт вторичного рационального анализа изначально целостного образа.
Чувственные образы, в свою очередь, также существуют не изолированно друг от друга, а образуют целостное, полимодальное феноменальное поле актуальных переживаний или, точнее говоря, поле совместно переживаемого, сопереживаемого (т.н. “перцептивное поле”).
Мы также отмечали, что целостность образов (и перцептивного поля) структурирована в соответствии с имеющимися у нас предметными категориями, т.е. образы непосредственно несут в себе предметный смысл, что и позволяет нам выделять относительно стабильные, себетождественные объекты восприятия их хаоса сырых ощущений, которые дают нам органы чувств.
В сфере смыслов мы имеем более высокую, чем в чувственной сфере, форму целостности, что, в частности, обусловлено отсутствием в идеальной сфере “чувственной” пространственности и временности — начал, которые в чувственной сфере разделяют, дробят сущее. Выше уже отмечалось, что единичный смысл — это не более чем абстракция. Единственной подлинной реальностью является целостное “смысловое поле”, в котором каждый смысл обретает определенность через соотношение со всеми другими смыслами или, образно говоря, через “место”, занимаемое им внутри “смыслового поля”. Смыслы взаимопроникают и взаимообуславливают друг друга. Каждый индивидуальный смысл содержит в себе или с необходимостью предполагает всю систему смыслов в целом. (Отсюда понятен тот “фокус”, который проделывали Фихте и Гегель – “выводя” весь категориальный строй мышления из одного единственного понятия через исследование условий, делающих возможными его осмысленное существование. “Смысловое поле” устроено таким образом, что за какой бы единичный смысл мы не “потянули” — мы обязательно “вытянем” всю “сеть” взаимообусловленных смыслов, так что построение системы типа гегелевской можно было бы начать с любого произвольно выбранного понятия, поскольку в нем потенциально содержатся все другие понятия).
Что же, однако, означает выражение: “данный единичный смысл”? Оно указывает просто на тот смысловой “слой”, который непосредственно “прилегает” к чувственному содержанию (слову, образу, представлению) с которым ассоциируется данное смысловое содержание. То есть это та часть “смыслового поля”, которая безусловно готова к актуализации при наличии в субъективной реальности данного, ассоциированного с этой частью “смыслового поля”, чувственного содержания.
Целостность существует не только внутри чувственности и смысловой сферы по отдельности, но и они, эти две онтологически разнородные составляющие субъективного, также образуют нерасторжимое единство.
Эмпирически единство чувственного восприятия и смыслов проявляется, прежде всего, как непосредственная осмысленность чувственных образов. Как правило, смыслы изначально соединены с образами — мы сразу обнаруживаем себя “внутри” некоторой смысловой ситуации. Сами образы, как уже отмечалось, непосредственно структурированы смыслами, не могут существовать как целостные себетождественные единицы вне их смысловой интерпретации. Лишь в специфических экстремальных условиях (инверсированное зрение, псевдоскопическое восприятие, наличие помех) возможно частичное “расщепление” восприятия на “чувственную ткань” и как бы вторично присоединяемые к ней смыслы: вначале мы что-то воспринимаем, а лишь затем понимаем что это такое [108]. Заметим, однако, что даже в этих ситуациях полностью отделить чувственность от смысла никогда не удается. Это так хотя бы потому, что даже чистые модальные качества всегда имеют для нас какой-то смысл (ощущение красного цвета имеет смысл “красного” и т.д., т.е. подводятся под соответствующее понятие, идею), хотя смысл в данном случае проистекает не из самой качественности, а присоединяется к ней извне.
С другой стороны, и смысл также не может существовать “сам по себе”, но лишь как смысл какого-либо чувственного феномена. Поэтому мы можем говорить об “интенциональной” природе смысла.
Такая тесная взаимосвязь чувственности и смыслов вытекает из предложенного выше истолкования смыслов как потенций. Поскольку потенция — это возможность перехода от одной актуальности к другой, смыслы можно понимать как своего рода “коммуникации” между различными чувственными феноменами, относящимися к различным временным (и модальным) пластам субъективного бытия.
Если представить “смысловое поле” в виде “сети” взаимосвязанных смыслов, то “узлы” этой сети — это те или иные, настоящие, прошлые и будущие, действительные и возможные чувственные переживания, а собственно смыслы образуют систему связей между этими “узлами”.
Таким образом, не существует отдельно “субъективной действительности” (перцептивного поля и поля представлений) и “смыслового поля”, но есть единая структура, состоящая из чувственности и смыслов. Те чувственные феномены, которые переживаются в настоящий момент времени — собственно “актуально переживаемое”, — занимают в этой структуре выделенное положение — именно по отношению к актуальным переживаниям “упорядочена” по степени готовности к актуализации вся многослойная система смыслов. Первый, наименее глубокий, “поверхностный” слой смыслов составляют те потенции, которые непосредственно присущи переживаемым в настоящий момент ощущениям, образам и представлениям. Эти потенции непосредственно готовы к актуализации без всяких дополнительных условий. “Средний” слой смыслов — это те потенции, которые могут быть актуализированы при дополнительных условиях, т. е. при наличии в субъективной действительности таких чувственных элементов, которым соответствовали бы данные потенции. (Конечно, это зависит и от структуры самого “смыслового поля”). Наибольшей “глубиной” обладают те смыслы-потенции, которые в обычных условиях практически не имеют шансов к актуализации (минимально доступны).
Актуально переживаемое как бы “высвечивает” часть “смыслового поля”, придавая интенционально сопряженным с ним смыслам несколько большую степень действительности, бытийной полноценности. Смыслы, в свою очередь, придают осмысленность чувственным переживаниям как бы “освещая” их “светом разума”. Но этот “свет” оказывается “видимым” (как и обычный свет) только тогда, когда он что-то “освещает”, т.е. когда имеются актуальные чувственные переживания на которые “направлены” данные смыслы.
Единство субъективной действительности и смыслов можно раскрыть и несколько иным способом. Заметим, что и актуальные переживания, и смыслы — есть, по сути, разные формы “знания” или информации. (Хотя это “знание” – по большей части дорефлексивное). В форме смысла информация существует как бы в “чистом виде”, как “чистое знание” лишенное явным образом какой-либо внешней оформленности, какой-либо “представленности”. Информация же воплощенная в субъективной действительности (чувственной сфере) — это “представленная”, оформленная информация. Ее форму образуют пространство, время и чувственные качества. Само содержание информации не зависит от формы ее “воплощения”, т.к. одна и та же информация может быть чувственно представлена в различной форме.
С этой точки зрения смыслы можно рассматривать как фундаментальную реальность, которая “проникая” в сферу актуального бытия обретает некоторую форму, т.е. пространственность, временность и качественную определенность, и, таким образом, “превращается” в чувственность. На фундаментальный статус смыслов, в частности, указывает тот факт, что возможны такие состояния сферы субъективного, в которых чувственная составляющая в данный момент вообще отсутствует (например, в состоянии глубокого сна, обморока и т.п.), тогда как смысловая реальность (как мы покажем ниже) сохраняется в виде совокупности потенций, соотносительных с возможными будущими актуализациями.
Но если чувственность рождается непосредственно из смысла, то это означает, что и сама форма чувственности (пространственность, временность, качественность) в некой неявной, “свернутой” форме присутствует внутри смысла, скрываясь где-то в его “глубине”. Потенциальность смысла, поэтому, следует понимать в какой-то мере аналогично учению Лейбница о “монадах” — содержащих в себе “Универсум” в свернутой форме, а именно – в форме “бесконечно малых перцепций”. Форма чувственности как бы в “бесконечно умаленной форме” скрывается в потенциальных глубинах смысла, пребывает внутри него в каком-то своеобразном “латентном” состоянии, а не привносится в смысл целиком извне. Только в этом случае становится понятно, каким образом смысл способен апеллировать к чувственности, способен иметь ее в виду, будучи, при этом, чем-то онтологически инородным по отношении к чувственным феноменам.
Чувственные образы – это “воплощенные” в чувственность смыслы (т.е. смыслы, в которых неявная, свернутая чувственность проявлена, развернута) и, следовательно, как смыслы, они интегрированы в единое “смысловое поле”, т.е. они выполняют в составе этого “поля” функцию смысловых элементов. Выше мы определили осмысление как трансцендирование в потенции. Переходя в виде образа в сферу актуального бытия, смысл утрачивает форму потенциального, но отчасти сохраняет свою “трансцендентную” природу. В образе осуществляется “трансцендирование в акте”. Эта форма трансцендирования и есть то, что мы выше обозначили как гештальтные (а также предметно-смысловые) свойства чувственного образа. Каждый чувственный элемент переживается не как нечто изолированное и самодовлеющее. Напротив, он переживается лишь в соотношении (смысловом) со всеми другими чувственными элементами, составляющими сферу актуально данного, т.е. можно сказать, что он трансцендирует в акте к этим чувственным элементам.
Если смыслы — это “чистая” информация, а чувственные образы — это “представленная” информация, то представления — это нечто промежуточное между образами и смыслами — т.е. есть информация лишь отчасти представленная, частично оформленная. При этом степень оформленности представлений варьирует в широких пределах. На одном полюсе находятся так называемые “эйдетические” образы, которые отличаются от чувственных образов лишь своей произвольностью, независимостью от текущей сенсорной стимуляции. На другом полюсе — предельно абстрактные представления почти лишенные всякой оформленности (точнее, чувственная оформленность в них почти полностью свернута) и, таким образом, почти неотличимые от смыслов.
Несколько слов нужно сказать о содержательной стороне смыслового поля. Поскольку осмысление, как мы видели, есть ничто иное, как отнесение осмысляемого объекта к некой интегральной “картине мира”, репрезентированной в сознании субъекта (или, точнее, к совокупности всех возможных “картин мира” – если мы хотим представить сферу смыслов во всей ее полноте – см. гл. 4) то, очевидно, содержательно смысловое поле – и есть не что иное, как эта самая “интегральная картина мира”. В таком случае отношения между элементами “смыслового поля”, определяющие структуру смысла, должны в некой “сверхчувственной” (идеальной) форме “копировать” отношения в “реальном” (чувственном) мире (мы пока не рассматриваем онтологический статус этого “реального” мира (см. гл.4)). Т.е. все отношения, которые существуют “в действительности” (пространственно-временные, причинно-следственные, отношения качественных и количественных различий и т.п.) – должны быть каким-то образом воспроизведены в сфере смысла – но с утратой, при этом, своей чувственной формы. Иными словами, можно говорить о неком “квазивремени”, “квазипространстве”, “квазикачестве”, “квазипричинности” и т.д. в сфере смысла. При этом “квазивремя” вневременно, “квазипространство” внепространственно, “квазикачество” – бескачественно. Т.е. они существуют в разных онтологических модусах. (Но, как уже отмечалось, эти “квази-свойства”, тем не менее, есть одновременно и подлинные чувственные свойства (время, пространство, качество) – но существующие в состоянии “свернутости” или “умаления”).
На эти “квазиреальные” отношения в смысловом поле накладываются еще и отношения, детерминированные отношением субъекта к тем или иным предметам или положениям дел. Субъект может, например, делить вещи на “желательные” и “нежелательные”, “реальные” (встречающиеся в составе действительного мира, данного ему в чувственном опыте) и “возможные”, а также “не возможные” (в мире его опыта). Положения дел могут представляться как более вероятные или менее вероятные, доступные для деятельности субъекта и не доступные, жизненно важные и не важные и т.п. Отсюда следует вывод, что структура “смыслового поля” чрезвычайно сложна, она гораздо сложнее структуры того, что мы обычно называем “реальным миром”, она “многослойна” и структурирована самыми различными “квазиреальными” отношениями, а также отношениями, детерминированными самим субъектом. Детальный анализ структуры “смыслового поля”, однако, не входит в задачу нашего исследования. Это задача не столько онтологии субъективного, сколько семантики, логики, психологии.
Поскольку мы определили содержание смыслового поля как ”интегральную картину мира”, то может возникнуть недоразумение, поскольку обычно говорят о различных ”картинах мира”: научной, обыденной, религиозной, мифологической и т.п. Не нарушает ли это обстоятельство единство и единственность смыслового поля? С нашей точки зрения – нет. Следует различать само смысловое поля и его многочисленные рефлексивные образы. Именно к последней категории и относятся упомянутые нами ”картины мира”. Их можно уподобить различным ”картам” (физической, политической, туристической, дорожной и т.п.) одной и той же местности (которая в данном случае символизирует смысловое поле, которое, как мы увидим далее, не только едино и единственно для каждого субъекта, но и обладает надындивидуальным статусом, т.е. едино и единственно для всех субъектов). Наиболее точная, подробная, объективная ”карта” смыслового поля представлена с нашей точки зрения в современной квантово-релятивистской физической картине мира. Здесь смысловые структуры изображены максимально абстрактно, лишены всякого чувственно содержания (не допускают наглядного представления) и никак не соотнесены с человеческой деятельностью. Картины мира в других науках не так детальны, подробны, но более удобны для тех или иных практических целей. Фундаментальное значение для нас имеет обыденная картина мира, в которой, в отличие от физической, смысловое поле представлено в преломлении через образы представлений, полученные нами из личного чувственного опыта, структурировано подобно сенсорным образам (в тех же пространственных и временных масштабах, в той же системе предметных единиц и т.д.) и изображение смыслового поля здесь максимально приспособлено для практических целей и нужд конкретного человека. Эта ”карта” гораздо менее детальна и подробна, чем физическая картина мира, но более удобна в применении. Религиозная, мистическая, мифологическая и другие картины мира также отображают смысловое поле в преломлении через определенные человеческие потребности и интересы. Хотя все эти ”картины мира” в разной степени полны и точны, все они вполне объективны, отображают различные аспекты одной и той же смысловой реальности. Более того, сами эти рефлексивные ”картины мира” – есть части того смыслового поля, которое они отображают, и как таковые они также участвуют в процессах смыслообразования.
2. “Я” И СФЕРА СУБЪЕКТИВНОГО
2.1. Природа индивидуального “Я”
Самая общая форма единства и взаимосвязи ощущений, образов, представлений и смыслов проявляется как “данность” всех этих феноменов единому “Я” или “субъекту”. С этой точки зрения “Я” можно истолковать как фактор, обеспечивающий единство сферы субъективного. Объяснить, что такое “Я” — это то же самое, что и объяснить, что соединяет воедино отдельные наши переживания, например, последовательные во времени чувственные состояния сознания. (Такой подход к пониманию “Я”, как отмечалось во Введении, восходит и Канту, к его идее “трансцендентального единства апперцепции” как коррелята “Я”).
Существуют две различные традиции понимания природы “Я” (и, соответственно, начала, объединяющего сознание). Согласно одной из них, “Я” есть некая трансцендентная точка, находящаяся за пределами сферы субъективного и каким-то непонятным образом объединяющая различные чувственные и внечувственные феномены за счет их абстрактной принадлежности этому “Я”. “Я” здесь — это как бы некий “чистый взор”, перед которым, как перед единственным (и единым) зрителем развертывается все богатство нашей внутренней жизни.
Поскольку трансцендентное “Я” не присутствует непосредственно в сфере субъективного, оно обнаруживается лишь косвенно — как условие, делающее возможным познание, как условие “трансцендентального единства апперцепции” (И. Кант), т.е. условие, создающее единство духовной жизни.
Вместе с тем, такого рода “абстрактность”, “беспредикатность” “Я” приводит к осложнениям. Будучи лишь абстрактным трансцендентным носителем субъективных феноменов — как “предикатов”, отличных от субъекта, будучи сверхприродным “невидимым видящим”, “Я” оказывается чем-то абсолютно непознаваемым. Можно знать, что “Я” существует, но невозможно знать, чем это “Я” является и, более того, невозможно знать, каким образом мы вообще узнаем о существовании “Я”.
Заметим, также, что трансцендентность и, соответственно, беспредикатность “Я” делают невозможным указание каких-либо критериев тождества “Я” во времени. Поскольку “Я” не обладает никакими фиксируемыми свойствами (т.к. не присутствует в сфере субъективного), потеря тождества “Я” (замена “Я” на “не-Я”) принципиально ненаблюдаема, т.е. не должна приводить к каким-либо наблюдаемым последствиям. Таким образом, трансцендентность “Я” приводит к выводу, что само существование “Я” и его тождество во времени может быть лишь предметом иррациональной веры и не может быть никоем образом доказано, показано или обосновано.
Более того, можно утверждать, что трансцендентное “Я” по существу бессмысленное понятие. Это трансцендентное “Я”, по самому его смыслу, очевидно, не есть некая идея или то, на что идея может неким образом указывать (т.к. оно лежит вне опыта). Следовательно, идея трансцендентного “Я” не есть само это трансцендентное “Я” или указание на него. Т.е. говоря о трансцендентном “Я”, мы фактически имеем в виду нечто от него отличное (например, некую субъективную идею “Я”). Само же трансцендентное “Я” как таковое полностью ускользает от мышления.
Согласно другой традиции, “Я”, напротив, имманентно сфере субъективного. Это и есть субъективность, взятая в аспекте ее целостности, самопереживаемости и самоданности. Эта точка зрения гораздо более приемлема. Прежде всего, поскольку “Я” имманентно сфере субъективного, оно оказывается в определенных пределах познаваемым. Выше мы отмечали, что обе компоненты сферы субъективного: чувственность и смыслы можно понимать как некое знание (или информацию) — представленное, оформленное — в случае чувственности и “чистое” — в случае смыслов. Если “Я” — это и есть сфера субъективного, то, очевидно, “Я” тождественно совокупному знанию, составляющему нашу субъективность. Поскольку трансцендентный субъект в данном случае устраняется, то знание, тождественное “Я”, есть “знание, знающее себя”, “самоданное”, есть знание, в котором непосредственно совпадают субъект знания, объект и само знание субъекта об объекте. (Идею “знания, знающего себя” и не нуждающегося в трансцендентном субъекте, которому это знание каким-то внешним образом “дано”, можно найти уже в учении Аристотеля о Боге, как мышлении, которое мыслит само себя. Детально эту концепцию развивал Плотин в своем учении об Уме, как совокупности мыслящих себя платоновских “идей”. В Уме, в отличие от Мировой Души и индивидуальной души, субъект, объект и знание первого о втором непосредственно совпадают [154]).
Поскольку субъект, объект и знание совпадают, то “данность” субъективных феноменов единому “Я” означает просто тождество “Я” и всех этих феноменов в их совокупности. Образ “дан” мне, поскольку я и есть этот образ в данный момент, точнее, образ есть часть моего “Я”.
Совокупное знание, содержащееся в моей субъективности, есть некая система взаимосвязанных смыслов (“идей”). Но всякая сумма идей — тоже есть идея. Таким образом, “Я”, как совокупное знание, есть некий сложный смысл, объемлющий все содержимое сферы субъективного. (Назовем этот смысл: “Я-идея”).
Заметим, что предполагаемое тождество “Я” некой системе смыслов (идее) вытекает уже из интуитивно очевидного положения о возможности достоверного (необходимо истинного) знания собственного “Я”. Действительно, невозможно искренне усомниться в том, что я — это я, а не кто-то другой. Однако знание может быть с необходимостью истинным только в том случае, если объект и знание о нем — одно и то же. То есть необходимо истинным может быть лишь знание знания о самом себе. В самом деле, если существует какое-либо хотя бы минимальное опосредование, “зазор” между знанием и его объектом, принципиально возможно искажение этого знания, т.е. несоответствие знания и объекта. Следовательно, невозможна и необходимая истинность этого знания.
Таким образом, поскольку знание “Я” достоверно, то это означает, что объект знания (реальное “Я”) и само знание (“Я-идея”) совпадают, т.е. “Я” тождественно знанию “Я” (дорефлексивному, конечно, отличному от рефлексивного знания “о” “Я”). Но это и означает, что “Я” обладает смысловой природой, есть некое, пусть дорефлексивное, знание. (“Единичный Логос” (Плотин) или “Понятие” (Гегель)).
Здесь нужно отметить еще одну концепцию в которой “Я” рассматривается как продукт рефлексии (рефлексивное “Я”). Эта точка зрения была сформулирована впервые Дж. Локком и характерна, в частности, для немецкой классической философии (Фихте, Шеллинг, Гегель). Она весьма распространена и в современной философии и психологии (см., например, [95]). “Я” с этой точки зрения тождественно самосознанию. Оно рождается в момент самоосознания вместе с “не-Я”.
Ошибочность этой точки зрения проистекает из тех парадоксов, к которым она приводит. Например, поскольку самосознание формируется у человека лишь к трем годам, то в соответствие с этой концепцией, мы должны сделать вывод, что до трех лет человек существует вообще без всякого “Я”, без всякой индивидуальности, т.е., по сути, вообще не существует как индивидуальное, отдельное от всего мира существо, обладающее приватным внутренними миром. Но ребенок до трех лет, очевидно, что-то ощущает, и эти ощущения – есть его собственные ощущения, принадлежащие исключительно ему самому. Но кому же они принадлежат, если никакого “Я”, никакой индивидуальности у него еще нет? И что он, в конце концов, осознает в качестве этого “Я”, если сам предмет осознания до его осознания не существует? Если “Я” совпадает с самосознанием, то следует думать, что человек, который считает себя Наполеоном в действительности и есть Наполеон. В таком случае человек лишается уникальности своей индивидуальности, единственности своего “Я”.
Таким образом, “Я” следует понимать именно как дорефлексивное “Я”. Только в этом случае “Я” есть нечто реально существующее, некое бытие. Рефлексивность, как мы далее увидим, есть лишь функциональное свойство сферы субъективного (делающее эту сферу сознанием). Сама по себе рефлексия не способна породить какое-либо бытие (если бы это было не так, то это означало бы, что продукт рефлексии коренным образом отличен от ее объекта и, т.о., рефлексии, как видения того, что есть “на самом деле”, что действительно имеет место в составе нашей душевной жизни, не существует). Рефлексивное “Я” существует лишь условно, функционально, как некое конкретное содержание сферы субъективного. Оно отражает выделенность в составе сферы субъективного модели “внешнего мира” и модели самого постигающего этот мир и действующего в этом мире субъекта. Сама возможность этого деления на субъекта и мир объектов, как мы увидим далее, предполагает определенные фундаментальные особенности строения человеческой субъективности (укорененность эмпирического “Я” в надындивидуальном сверхчувственном целом — Абсолюте). Но акт рефлексии как таковой сам по себе не порождает никаких онтологических различий, а лишь проявляет, переводит в иное функциональное качество предсуществующие на уровне дорефлексивной психики онтологические структуры.
Заметим, что наша сфера субъективного имеет и “неинформационную” (несмысловую) составляющую — это как раз та “форма представленности” в которой знание пребывает в сфере актуальных переживаний, т.е. это пространство, время и чувственные качества, взятые в “чистом виде”. Вместе с тем, благодаря причастности к этой форме представленности, “Я” только и оказывается чем-то действительным — не просто “идеей”, а “живой идеей”, привязывается к актуальному пространственно-временному бытию.
Поскольку “Я” уникально, уникальна и “Я-идея”, которая, таким образом, никогда до конца не может быть отрефлексирована. Действительно, полное осознание “Я-идеи” создавало бы возможность передать составляющее эту идею знание другому (если этот другой, конечно, реально существует), т.е. буквально “сообщить себя”. С точки зрения имманентной теории “Я” — это равносильно переносу “Я” из одной головы в другую. Но в таком случае “Я” утрачивает свою уникальность и возникает возможность неограниченного “размножения” “Я”, что противоречит сущности “Я” как единичной индивидуальности. Чтобы исключить возможность “размножения” “Я”, необходимо предположить, что информация, составляющая “Я-идею”, бесконечна по объему. “Я” — есть бесконечное знание, которое не может быть “сжато”, переведено в конечную форму.
Заметим, что из невозможности “удвоения” “Я” вытекает правило, согласно которому каждому “Я” соответствует только одна, сопряженная с ним сфера актуальных переживаний и, следовательно, несмотря на свою “идеальность”, каждое “Я” должно быть строго привязано к определенной, относительно локальной области “объективного” пространства-времени. Действительно, если бы мое “Я ” одновременно присутствовало в двух телах, разнесенных в пространстве, то между этими телами должна была бы осуществляться (в силу единства сознания), мгновенная “телепатическая ” связь (я должен был бы мгновенно чувствовать, что происходит в любом из двух моих тел). Но такая мгновенная связь между материальными объектами запрещена теорией относительности. Даже внутри одного мозга мое “Я ” не может полностью “расщепиться ” и одновременно осуществлять два полностью осознанных психических процесса, распределение внимания возможно лишь за счет его переключения с одного вида деятельности на другое, а также за счет частичной автоматизации того и другого действия.
Имманентная теория “Я” позволяет также решить проблему тождества “Я” во времени и рассмотреть связь между “Я” и личностью. Однако чтобы прийти к решению этой проблемы, необходимо предварительно рассмотреть временное “измерение” субъективного в целом.
2.2. Временная нелокальность субъективного. “Я” и личность
Целостное бытие субъективных феноменов обладает определенной временной глубиной. Так, совокупность актуально переживаемого (чувственная “субъективная действительность”) существует, очевидно, не как бесконечно тонкий временной “срез” бытия, а как целостное образование, локализованное внутри достаточно протяженной временной области, внутри которой сосуществуют в едином акте переживания последовательные (с точки зрения “объективного” порядка поступления в сферу субъективного) по времени ощущения, образы и представления. Эта временная область составляет “видимое присутствие” или “протяженное настоящее”.
Временная протяженность чувственного настоящего позволяет нам видеть окружающий нас мир в динамике, непосредственно воспринимать движение, вообще любое изменение во времени как нечто непосредственно данное, переживаемое. Действительно, чтобы воспринять движение именно как движение, необходимо в едином акте переживания схватить прошлое, настоящее и будущее движущегося объекта, что, очевидно, возможно только в том случае, если наше субъективное “сейчас” есть нечто протяженное, “размазанное” относительно шкалы “объективного” времени.
Наиболее впечатляющим свидетельством наличия временной глубины наших чувственных переживаний являются многочисленные “временные аномалии” нашего восприятия, описанные в психологической литературе [272]. Наиболее известный пример такого рода “аномалий” — так называемый “цветной фи-феномен”. Напомним, что классический фи-феномен, описанный Вертгеймером еще в начале двадцатого столетия, заключается в восприятии непрерывного мнимого перемещения единичного светового пятна в ситуации, когда испытуемому с большой скоростью попеременно показывают два неподвижных световых пятна, разделенных угловым расстоянием, не превышающим 4 градуса. Цветной фи-феномен отличается от обычного фи-феномена тем, что последовательно предъявляемые испытуемому световые пятна имеют различный цвет. Здесь также возникает эффект восприятия мнимого перемещения единичного светового пятна, которое смещаясь из одной точки в другую изменяет при этом свою окраску. Парадоксальный характер цветного фи-феномена заключается в том, что с точки зрения испытуемого изменение цвета движущегося пятна происходит в точке, находящейся как раз посередине между начальным и конечным пунктом мнимого движения, то есть субъективно цвет изменяется еще до того, как произошло реальное изменение цвета предъявляемого светового сигнала!
Этот эффект можно объяснить либо тем, что в данном случае имеет место предвосхищение будущего или же, напротив, можно объяснить существованием специфического эффекта “проецирования” предъявляемых в настоящий момент времени сенсорных стимулов в прошлое. В обоих случаях, однако, наше субъективное “сейчас” невозможно рассматривать как последовательный, линейно упорядоченный ряд необратимым образом сменяющих друг друга “моментов”. В пределах “сейчас” нет четкого разделения на настоящее, прошлое и будущее. Поэтому следующие друг за другом сенсорные события способны влиять друг на друга, как в прямом, так и в обратном временном порядке.
Можно выделить “нижние” и “верхние” границы “кванта” субъективного “чувственного” времени. В первом случае это максимальный временной интервал, внутри которого отсутствует временная дифференциация, т.е. отсутствует переживание течения времени (интервал времени еще столь мал, что субъективно он не переживается как нечто протяженное и все события, локализованные внутри этого интервала, переживаются как одновременные). Во втором случае имеется в виду максимальный интервал, в пределах которого еще сохраняется возможность охвата последовательных чувственных переживаний в едином акте внимания. Глубина временной нелокальности актуальных переживаний для “верхних” и “нижних” границ, по разным оценкам, составляет соответственно от десятков и сотен миллисекунд до примерно одной секунды (точнее от 0,7 до 1,1 сек (по данным Б.И. Цуканова) — для верхних границ). Весьма существенно, что временная протяженность чувственного “сейчас” существенно зависит от рассматриваемой сенсорной модальности (так, например, в слуховой модальности, с одной стороны, временные последовательности воспринимаются более дифференцированно, т.е. воспринимаются меньшие межстимульные интервалы, а с другой стороны, имеется возможность схватывания в едином акте восприятия больших временных последовательностей, чем, скажем, в зрительной модальности). Временная глубина также зависит от метода ее измерения, интенсивности чувственных стимулов, состояния мозга и других факторов [12]. Таким образом, следует признать, что субъективное время есть нечто неоднородное: для различных модальностей и различных видов чувственных переживаний оно обладает различной “зернистостью“ и “течет” с различной скоростью.
Если временная глубина субъективной действительности (чувственных переживаний) относительно невелика, то внечувственные, идеальные компоненты сферы субъективного (смыслы) можно рассматривать как нечто вообще находящееся вне течения времени или, по крайней мере, обладающее чрезвычайно протяженным настоящим.
Эмпирически сверхвременная природа смыслов проявляется как способность непосредственного схватывания смысла событий, временная протяженность которых далеко выходит за пределы чувственно переживаемого “настоящего”. Например, если я способен в едином акте сознания схватить содержание кинофильма как нечто целое или, также как целое, — воспринять содержание длинной книги, театральной пьесы, способен оценить их именно с точки зрения временной динамики (пьеса затянута, скомкана и т.п.), то основой такой способности может служить лишь некое достаточно протяженное во времени идеальное образование.
С другой стороны, если сознание — есть временной поток, то как оно способно осознать это? Как поток может узнать, что он поток? Находясь внутри движения, будучи захваченным им, невозможно это движение почувствовать (также как, например, моряки в открытом море, вдали от берега не воспринимают движение своего корабля). Чтобы воспринять собственное движение во времени необходимо иметь неподвижную во времени “точку отсчета”, т.е. иметь нечто вневременное. Следовательно, поскольку сознание способно воспринимать себя как временной поток, оно должно содержать в себе нечто находящееся вне течения времени, нечто “сверхвременное”. (На это обстоятельство обращал внимание еще И. Кант [81 с. 174-177]).
Прибывая всегда лишь в настоящем, мы бы и знали одно только настоящее и не могли бы уловить движение собственной души во времени – ведь последнее предполагает возможность каким-то образом соотносить разделенные во времени события, сопоставлять их непосредственно друг с другом. Вообще все временное возможно лишь на фоне сверхвременного, хотя бы просто потому, что всякая вообще множественность (и множественность моментов времени, в том числе) – возможна лишь на фоне единства, преодолевающего эту множественность и позволяющего соотносить единицы многого друг с другом, утверждая тем самым факт их наличия в качестве отдельных единиц.
Заметим также, что если бы мы существовали только в настоящем, то было бы не возможно объяснить, каким образом у нас вообще возникает идея прошлого и будущего. Прошлое и будущее было бы нам дано лишь в модусе настоящего, но не в модусе прошедшего и будущего. Но, не имея опыта, в котором нам непосредственно было бы дано прошлое и будущее, мы не могли бы образовать идею прошлого и будущего. Ведь не возможно же образовать идею прошлого или будущего, используя при этом лишь те элементы внутреннего мира, которые принадлежат исключительно лишь к настоящему. Таким образом, уже сама возможность помыслить прошлое и будущее, указывает на наличие в нашей сфере субъективного некой сверхвременной сущности. На роль такой сверхвременной сущности, на фоне которой возможно восприятие временной динамики чувственных “состояний сознания”, как раз и может претендовать смысл.
С теоретической точки зрения сверхвременность смысла вытекает уже из описанной выше целостности “смыслового поля”, неразложимости его на отдельные, несвязанные смысловые единицы. Поскольку всякий смысл существует лишь в контексте всей целостной системы смыслов, говорить о текущем переживании смысла можно лишь условно. В каждом текущем состоянии сознания представлена в виде смыслового “горизонта”, универсального контекста актуально переживаемого, вся совокупность индивидуальных смыслов, хотя и в каком-то определенном, присущим именно данному моменту времени “смысловом ракурсе”. Смыслы не сменяют друг друга, возникая и уничтожаясь, но лишь меняется их готовность к актуализации — соотносительно с текущим состоянием субъективной чувственности.
Заметим, что идея сверхвременной природы некой “глубинной” составляющей человеческой души широко представлена в различных философских учениях прошлого. Так, у Плотина наиболее фундаментальные составляющие души “пребывают в Вечности” и тождественны мировому Уму и Единому. И. Кант также предполагал наличие как временной, так и вневременной составляющей душевной жизни. Собственно “субъект”, по Канту, как “вещь в себе”, находится за пределами мира феноменов, к которому только и применима “временность”, как априорная форма созерцания. По Бергсону, человеческая память — есть прямой доступ (через время) к прошлому, а не сохранение следов прошлого в настоящем [17]. Широко представлена идея вневременности “Я” также и в русской философии конца 19, начала 20 века. (Л.М. Лопатин, Н.О. Лосский, Л.П. Карсавин, Е. Н. Трубецкой, С.Л. Франк и др.). Причем в качестве нелокального во времени содержания души нередко назывался смысл. Здесь достаточно будет процитировать Е. Н. Трубецкого, выражающего по существу общую позицию названных русских философов:
“…всякий синтез моментов, разделенных между собой во времени, возможен лишь через интуицию смысла сверхвеременного” [202].
Проблема временной нелокальности сферы субъективного тесно связана с проблемой тождества “Я” во времени. Действительно, единственный мыслимый способ убедиться в том, что мое “Я” в данный момент времени то же самое, что и год назад, заключается в непосредственном перемещении в прошлое и сопоставлении актуального и прошлого “Я”. Следовательно, если наше интуитивное убеждение в тождестве собственного “Я” имеет под собой какое-то реальное основание, то наша субъективность должна обладать способностью прямого (через время) доступа к своим прошлым состояниям, т.е. обладать практически неограниченной временной нелокальностью. “Имманентная” теория “Я” побуждает нас искать механизм этой нелокальности внутри сферы субъективного, т.е. нужно найти такой нелокальный во времени элемент нашей субъективности, который обеспечил бы реальную сопоставимость различных временных состояний нашего сознания. Поскольку ощущения, образы, представления явно локализованы во времени, такого рода нелокальность, сверхвременность можно отнести лишь к идеальной, внечувственной составляющей сферы субъективного, а это, прежде всего, смыслы.
Смыслы, в таком случае, следует понимать как сверхвременные отношения между настоящими, прошлыми и возможными будущими чувственными элементами. Т.е. “трансцендирование”, с которым мы ранее связали возникновение смысла, понимая его как соотнесение актуально переживаемого с прошлым опытом, следует истолковать как прямой (через время) доступ к прошлым чувственным состояниям сознания “в подлиннике” — как некое “путешествие во времени” в собственное субъективное прошлое, а не как тривиальное сопоставление с существующими в настоящем следами прошлых событий. Смысл, с этой точки зрения (по крайней мере, отчасти), — это и есть прошлое, в полном объеме присутствующее в настоящем. Эффект осмысления — это просто эффект сверхвременного единства сферы субъективного. Именно эти сверхвременные смысловые связи и соединяют, “склеивают” последовательные во времени чувственные состояния сознания и, таким образом, создают то, что мы называем “тождеством “Я” во времени”.
Могут возразить: если прошлое в полном объеме, да еще “в подлиннике” присутствует в нашей душе, то как мы можем что-то забывать, почему мы не обладаем абсолютно совершенной памятью? Здесь нужно учитывать, что воспоминание — это акт рефлексии, предполагающий способность к самоотчету. Простое пребывание информации в нашей душе — не означает, что она автоматически в силу этого может быть отрефлексирована. Есть знание, и есть знание “об” этом знании. Поэтому наличие в нашей памяти полной и исчерпывающей информации о прошлом не обязательно предполагает способность по первому требованию предъявить эту информацию. Однако в некоторых специфических условиях это полное и исчерпывающее знание собственного прошлого может быть проявлено. Здесь можно указать на такое известное психологам явление, как “вспышки пережитого” — мгновенное перемещение субъекта в собственное прошлое и переживание им заново того или иного фрагмента собственной прошлой жизни со всеми мыслимыми подробностями. Это явление наблюдал У. Пенфилд [325] со своими сотрудниками во время нейрохирургических операций при электрическом раздражении средней височной извилины левого полушария у больных эпилепсией. Другое сходное явление: “хронологическая регрессия” — перенос личности в целом в ее собственное прошлое. При этом человек начинает воспринимать все окружающее с позиции более раннего возраста. “Хронологическая регрессия” может быть вызвана односторонним электрошоком или же гипнотическим внушением [9].
Все эти феномены показывают, что в нашей памяти потенциально хранится вся сенсорная и иная информация, полученная нами на протяжении жизни. Причем хранится в упорядоченной во времени форме. Следует подчеркнуть, что нам, по существу, не известны те нейрональные механизмы, которые были бы способны зафиксировать в мозге такой колоссальный объем информации (достигающий, по некоторым оценкам величины порядка 1017 -1020 бит). С этой точки зрения уже не представляется чем-то невероятным способность нашего мозга иметь “прямой доступ к прошлому”, вместо того, чтобы записывать информацию посредством каких-то нейрофизиологических или нейрохимических процессов. Эта гипотеза одновременно объясняет и колоссальную емкость памяти, и временную упорядоченность воспоминаний. Кроме того, нужно отметить, что и с физической точки зрения “прямой доступ к прошлому” — не есть что-то абсурдное, физически невозможное. Так, теория относительности рисует нам мир, в котором время с необходимостью мыслится пространственно-подобным, т.е. протяженным (поскольку временной континуум неотделим однозначно от пространственного континуума) и, следовательно, с этой точки зрения, прошлое никуда не исчезает — оно столь же реально, как и настоящее.
Мы видим, что и актуальная (единовременная), и временная целостность “Я” оказываются смысловой целостностью — единством смысла, пронизывающего последовательные во времени действительные (чувственные) субъективные состояния. С этой точки зрения “Я” — это сфера субъективного, взятая в аспекте ее сверхвременного единства, причем смыслового единства. “Я” тождественно не текущему состоянию субъективной сферы, а всей последовательности связанных единым смыслом субъективных состояний (также как, например, роман Л. Толстого “Война и мир” — это вся книга в целом, а не отдельная страница или глава). По сути, вообще не корректно говорить о “Я” как о чем-то актуально существующим или говорить о “текущем состоянии Я”. “Я” вне течения времени, есть нечто “времяобъемлющее” и причастно актуальному “сейчас” лишь постольку, поскольку последнее входит в “Я” в качестве элемента.
Вместе с тем, единый смысл, соединяющий последовательные состояния сознания в единое целое — это и есть реальная личность, понимаемая как живое, духовное, сверхвременное (пребывающее в Вечности) “существо”, идеальный “организм”. Личность – это, по существу, есть сфера субъективного, взятая во всей ее полноте. Специфика конкретной личности определяется ее смысловым строением, т.е. “устройством” ее индивидуального “смыслового поля”. (Напомним, что “личность” мы рассматриваем здесь, в соответствие с планом нашего исследования, лишь с “формальной” точки зрения, т.е. как специфическую “бытийную форму”, и не вникаем в содержание, которое существует в этой форме. Поэтому мы вполне можем опустить здесь проблематику социально-культурной детерминации личности, которая сама по себе важна, но не имеет отношения к нашему исследованию).
Заметим, что понимание личности как онтологически наличной, присутствующей в составе бытия сущности в любом случае несовместимо с “актуализмом”, т.е. точкой зрения, согласно которой реально существует только то, что существует “сейчас” (в настоящем). Действительно, личность, очевидно, не есть нечто “мгновенное”, т.е. существующее на сколь угодно малом временном отрезке. Бессмысленно говорить о личности, имея в виду интервал времени порядка нескольких секунд или минут. Личность проявляется лишь в масштабе часов, дней, месяцев, лет. Сверхвременная природа смысла позволяет представить личность как нечто одновременно и протяженное во времени и вполне реальное.
Выше мы обозначили совокупность индивидуальных смыслов (совокупное “знание”, заключенное в сфере субъективного) как “Я-идею”. Теперь мы приходим к выводу, что личность — это и есть “Я-идея”. Однако, трактовка “Я-идеи” как реальной “эмпирической личности” сталкивается с существенной трудностью. С одной стороны, “Я” есть нечто по своей природе неизменное, тождественное себе (если “Я” есть “субъект” тождественный совокупности своих “предикатов” — а именно это и утверждает “имманентная” теория “Я”, то всякое изменение хотя бы одного предиката неизбежно превратит “Я” в “не-Я”), а с другой стороны, реальная “эмпирическая” личность — это нечто непрерывно меняющееся, развивающееся.
Решение этого противоречия, по-видимому, заключается в понимании “Я-идеи” как некой “абстрактной” идеи, объемлющей своим смыслом не только реальную личность, но и все возможные (виртуальные) личности, т.е. все те личности, которые могли бы возникнуть на основе данного “Я” в других обстоятельствах. Действительно, если бы я сегодня вместо того, чтобы писать эту работу, пошел в гости, в театр и т.п. — это привело бы к некоторому изменению моей личности — в состав моего “Я” вошли бы какие-то другие переживания. Но тождество моего “Я” от этого, по-видимому, не будет утрачено. (Если, конечно, не предположить, что все события моей жизни заранее жестко предопределены). Следовательно, тождество моего “Я” совместимо с различными (но, вероятно, не любыми) вариациями личности. Если мы, учитывая это, хотим сохранить понимание “Я” как некоего вполне определенного содержания (информации, знания), то все эти допустимые вариации личности должны уже заранее содержаться в “Я-идее” в какой-то неявной, имплицитной форме. ( Если я есть все то, что я переживаю, то, очевидно, я есть также и все то, что я могу пережить в будущем или мог бы пережить в прошлом – при иных обстоятельствах моей жизни).
Таким образом, мы приходим к выводу, что “Я” тождественно не конкретной, ограниченной какими-то рамками “эмпирической” личности, а бесконечной стационарной структуре – “пучку” “виртуальных” личностей, воплощающих в совокупности конкретную, уникальную “Я-идею” — идею данной, конкретной и бесконечно многообразной в своих возможных воплощениях, духовной индивидуальности. Это реальное, неизменное, тождественное себе наше “Я” можно назвать “метафизической личностью”, в отличие от “эмпирической личности” – определяемой конкретной биографией субъекта. (Наличию в составе “Я-идеи” “виртуальных” составляющих соответствует присутствие в составе смыслового поля не только “действительной” (построенной на основе личного опыта) “картины мира”, но также и бесконечного множества “возможных” “картин мира”, которые также участвуют в актах смыслообразования. Всякое осмысление предполагает соотнесение осмысляемого объекта не только с действительными, но и с возможными предметами и ситуациями, предполагает видение этого предмета в системе многих альтернатив, – что позволяет человеку в той или иной мере “оторваться” от наличной ситуации, дистанцироваться от реального мира. Этот относительный “отрыв от реальности” – и есть, по существу, основание специфически человеческого способа видения мира, есть основа его сознания и самосознания – см. подробнее п. 4.2).
Итак, мы видим, что наше “Я” существует преимущественно в “сверхактуальном” мире “возможного” и лишь какой-то малой своей частью присутствует в действительном, чувственном, пространственно-временном мире. Именно поэтому мы продолжаем существовать как то же самое “Я” после выхода из наркоза, сна без сновидений и других состояний субъективного “небытия”. В этих состояниях, лишаясь актуального бытия, мы продолжаем существовать как “чистая потенция”, как чистое духовное существо, способное к новой актуализации.
Заметим, что вытекающая из концепции “виртуальных личностей” содержательная бесконечность “Я-идеи” является, вместе с тем, необходимым условием уникальности нашего “Я”, невозможности его “удвоения” или “размножения”. Если информация, тождественная “Я”, конечна, то “Я”, очевидно, может быть в принципе размножено, что противоречит сущностной единичности “Я”.
Если наше подлинное “Я” – есть “метафизическая личность”, содержащая в себе все возможные “виртуальные” личности, то наше “эмпирическое Я” – есть лишь одна из этих “виртуальных личностей” – именно та, которая актуализируется в течение жизни. “Эмпирическая личность” – это, по существу, некая система ограничений или, вернее сказать, некая определенная “упорядоченность” системы смыслов, их специфическая “иерархия”. Смыслы, входящие в состав “эмпирической личности” становятся доступными субъекту в специфическом модусе “реально произошедшего” или “реально имеющего место” в жизни данного эмпирического субъекта. Иные же смыслы даны в модусе “фантазии”, “не реального”, “только лишь возможного”. Формирование эмпирической личности – это, по существу, формирование определенной системы доступа к некоторой избранной части универсального “смыслового поля” (включающего в себя все возможные “виртуальные личности”, относимые к данному “Я”). Можно даже сказать, что “эмпирическая личность” – это и есть механизм, обеспечивающий избирательный доступ к смыслам, механизм, определяющий порядок развертки смыслов и связывающий смыслы с поведенческими проявлениями индивида. Упорядочение смыслов осуществляется, в частности, и по временному признаку. В результате задается временная “траектория” данной конкретной личности – это и есть то, что мы обычно называем словом “судьба”.
В конечном итоге, специфика структуры конкретной “эмпирической личности” определяется преимущественно целями регуляции поведения, которые заданы “внешним миром” (социально-культурным окружением, в частности). Одна из основных задач самосозидания “эмпирической личности” — это задача построения целостной, упорядоченной (во времени, в пространстве, в причинном отношении) “интегральной картины действительного мира”, которая и задает все содержательные особенности функционирования индивидуального “смыслового поля”.
Далее возникает вопрос: не является ли вся эта изложенная теория “Я” продуктом метафизической фантазии, в частности, имеются ли какие-либо факты, которые могли бы хотя бы косвенно подтвердить концепцию “виртуальных личностей”? Как нам представляется, такие факты имеются в изобилии. Достаточно вспомнить удивительные открытия аналитической психологии К. Юнга, а также исследования в области “трансперсональной” психологии С. Грофа [45, 46]. Наше бессознательное в этих исследованиях предстает как огромный резервуар “скрытого” знания, которое по большей части не имеет ничего общего с нашим обычным жизненным опытом. Откуда возникают странные, фантастические образы и сюжеты сновидений, что является источником необычных переживаний, вызванных действием наркотиков (таких, например, как ЛСД или кетамин)? Как объяснить случаи внезапного раздвоения личности, когда вторая личность возникает практически сразу, без сколько-нибудь длительного периода ее формирования и совершенно не похожа на первую, исходную личность? (Такие случаи были описаны еще в 19 веке, например, Т. Рибо [170]; современное исследование случаев расстройства множественной личности можно найти в работе Ф.В. Патнема [159]). Далее, что питает творческую фантазию художников, писателей, откуда возникает необычное содержание “мистических” переживаний? На все эти вопросы невозможно ответить исходя из тривиального понимания личности как чего-то производного от “деятельности”, как отражения жизненного пути индивида, его индивидуальной биографии и т.п. С другой стороны, “виртуальные личности” — как бесконечный резервуар имплицитной, не проявленной в обычных условиях информации о возможных иных “жизненных траекториях”, ином личном опыте — вполне могли бы служить источником всех этих необычных явлений человеческой психики.
Можно предположить, что в особых условиях эти наиболее “глубокие” “виртуальные” слои “смыслового поля” нашего “Я” каким-то образом могут быть развернуты, что и приводит к появлению необычных содержаний в нашем сознании.
Заметим, что нет никакой необходимости заранее ограничивать “спектр” “виртуальных” личностей только лишь возможными человеческими личностями. Вполне возможно, что я мог бы родиться инопланетным разумным существом или же мое “Я” могло быть сферой субъективного какого-то животного. Нельзя даже исключить возможность потенциального присутствия в моем “Я” “виртуальных существований” в каких-то иных, подчиняющихся другим физическим законам, Вселенных. (эти виртуальные существования могут частично актуализироваться, например под воздействием ЛСД или холотропного дыхания). Таким образом, мы обнаруживаем в составе нашей сферы субъективного в качестве ее глубинной основы то, что можно назвать “Умопостигаемым универсумом” или Абсолютом, т.е., по сути, совокупность всего того, что потенциально может составить содержание наших переживаний во всех возможных (мыслимых) мирах (о чем мы подробнее поговорим в 4 главе).
3. АФФЕКТИВНО-ВОЛЕВАЯ СФЕРА. ПРИРОДА РЕФЛЕКСИИ
3.1. Природа воли
Мы описали строение и основные формальные свойства сферы субъективного. Нам, далее, необходимо установить насколько полным является это описание: все ли явления и свойства сферы субъективного в него укладываются, сводимо ли содержимое сферы субъективного к смыслам и “чувственности”?
К субъективным явлениям относятся, наряду с ощущениями, образами, представлениями и смыслами, также и такие феномены, как волевые акты, желания, стремления, намерения, ценности (оценки), эмоциональные переживания (аффекты), чувство уверенности (вера), этические и эстетические переживания (угрызения совести, чувство справедливости, чувство прекрасного и т.д.). Каков онтологический статус этих явлений? Что такое, например, страх, наслаждение, любовь, надежда, уверенность, чувство истины? Сводимы ли они к чувственным переживаниям, являются ли разновидностью смыслов или же есть особые, несводимые к чему-либо качества или измерения субъективного? Эти вопросы мы и рассмотрим в данном разделе.
Рассмотренные только что субъективные явления по большей части распадаются на две группы: группу волевых явлений (желания, стремления, намерения, собственно волевые акты) и аффекты (веру можно рассматривать как интеллектуальный аффект). В особую группу можно выделить ценности, которые имеют отношение, как к воле, так и к аффектам.
Как аффекты, воля, ценности соотносятся с чувственностью и смыслами? Ясно, что ни воля, ни эмоции, ни ценности не сводимы к ощущениям или образам, хотя нередко и сопровождаются специфическими чувственными эффектами. Рассмотрим, например, “чувство боли” (правильнее сказать, “аффект боли”). Сводима ли боль к “чистому” болевому ощущению? По-видимому, нет. Известно, в частности, что в некоторых случаях у больных с патологией лобных долей мозга ощущение боли целиком сохраняется, однако даже сильные болевые ощущения не вызывают у них более беспокойства, не причиняют страдание [16]. Необходимо, очевидно, чтобы что-то внечувственное присоединилось к ощущению боли для того, чтобы сделать боль аффектом, а не просто нейтральным ощущением. Аналогично обстоит дело с другими эмоциями, а также волевыми явлениями. Например, намерение может сопровождаться представлениями о планируемых действиях. Однако эти действия можно представить себе и без всякого намерения выполнить их. Страх не сводим к специфическому ощущению в ногах, в животе и других частях тела. Было бы, конечно, крайне наивно отождествлять любовь с сердцебиением, дрожью и другими вегетативными проявлениями состояния влюбленности.
Таким образом, и эмоции и волевые феномены, не говоря уже о ценностях, — это, в сущности, нечто сверхчувственное. Нельзя ли в таком случае отождествить их со смыслами? Нельзя ли предположить, что то, что присоединяется к ощущению боли и делает ее болевым аффектом — есть именно “смысл боли”? Однако смысл мы определили как “чистое знание”. Совершенно очевидно, что знать о боли и испытывать боль — это не одно и то же. Так, “смысл боли” мы переживаем когда слышим и понимаем слово “боль” — но это отнюдь не вызывает у нас чувство страдания. Точно так же любить и знать, что такое любовь, бояться и знать, что такое страх — далеко не одно и то же.
Если любовь, страх, вера, наслаждение, боль и т.п. — это смыслы, то смыслы весьма специфические. Они выражают не только и не столько какое-то “обстояние дел” но, прежде всего, выражают отношение субъекта к этому “обстоянию дел”. Каким образом это отношение дано субъекту, как оно переживается в волениях и аффектах – мы и попытаемся здесь исследовать.
Начнем с анализа волевых феноменов. Если мы зададимся вопросом: в чем заключается смысл таких субъективных феноменов, как желания, стремления, намерения, то наиболее приемлемый ответ будет такой: все они выражают готовность действовать определенным образом. Собственно волевой акт — есть реализация этой готовности. Желания, стремления, намерения — это отсроченная (до наступления определенных обстоятельств) готовность действовать определенным образом. (Этот подход к определению сущности волевых феноменов можно рассматривать как обобщение известного определения веры, как “готовности действовать определенным образом” (Ч. Пирс). Отметим, что подобный подход в отношении воли и эмоций разрабатывался, также, С. Хэмпширом, (см.: [163]).
Таким образом, можно предположить, что переживание, например, намерения — это переживание (предчувствование) готовности к действию при определенных условиях. Но это переживание, по сути, тождественно знанию, что те или иные действия будут выполнены. Что же делает намерение именно намерением, а не просто нейтральным знанием о действии? Прежде всего, очевидно, это сама возможность реального осуществления действия. Я могу просто помыслить о действии, не намереваясь его совершить, и могу помыслить то же действие с реальным намерением выполнить его. Очевидно, во втором случае, в отличие от первого, помысленное действие соотносится с переживанием реальной осуществимости данного действия.
Что такое, однако, “реальное действие”? Это, прежде всего, действие, осуществляемое во внешнем мире, т.е. за пределами сферы субъективного. Другими словами, волевой акт, в этом случае, предполагает то, что Ницше удачно назвал “аффектом команды”, т.е. предполагает генерацию некоего субъективного состояния (возможно, представления) — которое воспринимается некими внешними (по отношению к эмпирическому сознанию) исполнительными механизмами как “команда” к осуществлению того или иного конкретного действия.
Поскольку нас пока интересует лишь “внутренняя” (внутри сферы субъективного) переживаемость “аффекта команды”, то мы должны попытаться отыскать какой-то чисто внутренний коррелят “команды” — как субъективной формы направленности “изнутри” — “вовне”.
Поскольку “внешняя” реальность (по крайней мере, на “чувственном” уровне) нам непосредственно не дана (если только мы не принимаем “интуитивистскую” модель восприятия — как непосредственного “схватывания” предметов “в подлиннике”), то должен существовать какой-то ее субъективный “заместитель” — в виде идеи существования реальности за пределами сферы субъективного. Именно эта идея и позволяет нам мыслить “команду” как направленную “вовне” (чтобы мыслить направленность “вовне”, нужно обладать идеей “внешнего”, отличного от “внутреннего”).
Таким образом, можно предположить, что одним из базовых модусов воления является идея “трансцендентной реальности”, которая позволяет мыслить волевые акты как продолженные за пределы сферы субъективного. (Конечно, само присутствие в сфере субъективного идеи трансцендентного требует объяснения. Могла ли эта идея возникнуть без действительного доступа к реальности за пределами нашей субъективности? Если нет, то модель субъективного, как замкнутой в себе сферы не верна и ее придется корректировать. Однако все эти вопросы мы пока отложим до 4 главы т.к. детальное их обсуждение вывело бы нас за рамки задачи данной главы — дать простое описание сферы “непосредственно данного” не затрагивая проблему отношения субъективных данностей к реальности за пределами “данного” – если таковая вообще имеется).
Заметим, что воление не обязательно должно быть воплощено в какое-либо внешнее “моторное” действие (движение). Волевой акт может осуществляться исключительно “в ментальном плане” и касаться, например, выбора направления движения мысли (я пожелал о чем-то помыслить и помыслил). В этом случае также можно предположить генерацию “команды”, которая также принимается к исполнению неким “внешним” механизмом, “управляющим” движением мысли.
Далее, как в случае “внешнего” действия воли, так и в случае “ментального” действия, для того, чтобы субъективное переживание имело для нас смысл “команды”, необходимо не только иметь идею “внеположной” реальности, но также необходимо иметь представление о том, как эта реальность “устроена”, как, в частности, она будет реагировать на ту или иную “команду”. Мы переживаем некоторое субъективное состояние как “команду”, если не только имеются в виду какие-то действия, которые должны быть выполнены, но и имеются в виду и некие “механизмы”, которые обеспечивают реализацию этого действия в физическом или в ментальном плане. Это означает, что в сфере субъективного должна содержаться как бы некая “модель” “механизмов”, принимающих “команды” к исполнению, так что мы заранее “знаем”, что данное субъективное состояние обязательно приведет к определенному “внешнему” или “внутреннему” эффекту. Благодаря этой модели, “механизм” воления включается в “смысловое поле” в качестве одного из смыслообразующих элементов и в таком своем качестве выражает идею “действования” (или модус “действования”). Всякая реальная готовность действовать включает в себя этот модус “действования”.
Таким образом, всякая реальная готовность действовать не просто имеет в виду какие-то возможные действия, но и содержит в себе “предчувствование” реального “срабатывания” механизма, осуществляющего это действие. Мы не только заранее знаем, что некоторые субъективные состояния могут вызывать какие-то “внешние эффекты”, касающиеся, в частности, и саморегуляции нашего сознания, но, также, хотя бы приблизительно представляем, что это за эффекты, к каким последствиям может привести та или иная, отданная нашим сознанием “команда”.
Мы установили, чем волевые явления отличаются от “чистых смыслов”: если последние выражают некое объективное “положение дел”, то первые как бы включают в это “положение дел” и самого эмпирического субъекта с его вполне определенными действиями в отношении того или иного “положения дел”. Смысл, который выражает вполне определенную готовность субъекта действовать специфическим образом в данной ситуации — можно определить как “личностный смысл”. Это смысл, в который интегрированы воления и аффекты. (Личностный смысл ситуации определяется не только тем, в какие объективные связи она “погружена”, но также и тем, какие действия реально готов совершить субъект в данной ситуации).
Объективный (надличностный) смысл ситуации также включает в себя множество возможных направлений действия субъекта в данной ситуации. Однако в этом случае не учитывается: какое именно действие из множества возможных реально готов совершить субъект.
Специфика воления “как такового”, таким образом, в том, что желания, стремления, собственно волевые импульсы — предполагают не просто интегрированность в смысл некоторого спектра возможных действий, но предполагают акт выбора (селекции) определенного направления действия из множества объективно возможных действий. Таким образом, воля — это как раз и есть тот механизм, который осуществляет “селекцию” направлений действий. Поскольку действие определяется смыслом ситуации, можно сказать, что воля определяет направление “развертки” того или иного смысла, причем эта развертка может осуществляться либо в чисто “ментальном плане” (и тогда воля выступает как механизм, определяющий направление “движения мысли”, т.е., фактически, как механизм мышления), либо в плане внешних действий, если таковые интегрированы в структуру данного смысла. (Все это приводит нас к проблеме “свободы воли”, обсуждение которой мы, однако, вынуждены отложить до п. 4.2).
3.2. Природа аффектов
Перейдем теперь к анализу эмоциональной сферы. Зададимся вопросом: в чем смысл эмоциональных переживаний? В чем, например, смысл страха? Пусть это будет страх, который я испытываю, когда вижу животное, собирающееся напасть на меня. Очевидно, смысл страха заключается здесь в том, что я испытываю готовность любым (или не любым — в зависимости от силы страха) способом избежать контакта с этим животным. Напротив, смысл удовольствия заключается в том, что я испытываю готовность любым (или не любым) способом войти в контакт с предметом, доставляющим мне удовольствие. (В реальных ситуациях не всякий способ избегания и вхождения в контакт приемлем и, таким образом, можно говорить о различных степенях и формах готовности действовать в связи с предметом эмоционального переживания).
Таким образом, мы можем сделать вывод, что, как и в случае с волевыми феноменами, смысл эмоции заключается в переживании различных степеней и форм готовности действовать определенным образом. В чем же, в таком случае, заключается различие между аффектами и волениями? Отчасти, различие заключается в том, что в случае волевых явлений переживание готовности действовать сопряжено с представлением о самом планируемом действии, а в случае эмоции — в большей степени сопряжено с представлениями о предмете или обстоятельствах, побуждающих нас действовать, тогда как само действие предчувствуется (планируется) лишь в самой общей форме (пока эмоция не перешла в стремление, намерение). Другое существенное отличие эмоций от воли заключается, по-видимому, в том, что волевой акт непосредственно связан с механизмами разумной и произвольной саморегуляции. Он целесообразен, разумен, произволен, подчинен нашему “Я“, самости. Аффект же, напротив, связан с механизмами саморегуляции, альтернативными нашему интеллекту и связанных прежде всего с биологически детерминированными инстинктивными программами поведения. Т.о. механизм эмоций, по-видимому, совершенно отличен от механизма воления, хотя и тот и другой создают один и тот же результат — готовность действовать. Эти два механизма могут конкурировать, подавлять друг друга. В этом случае мы имеем то, что называют борьбой между волей и чувством. Принципиальное отличие механизмов воления и эмоций связано с нашей способностью осознавать и произвольно (т.е. сообразно нашей самости) контролировать выбор направления собственных действий. Если выбор потенции, которая далее должна быть актуализирована в действии, осознается субъектом и произвольно им контролируется — то в этом случае мы имеем волевой феномен (например, намерение сделать что-либо). Если же выбор способа действия не осознается и не контролируется самостью, то мы имеем эмоциональное переживание.
Всякий акт выбора имеет две составляющие: первая составляющая — это свободный импульс, исходящий от нашего эмпирического “Я”, вторая составляющая — это внешние (по отношению к эмпирическому “Я”) механизмы детерминации. В случае волевого акта, эта внутренняя составляющая — есть механизм, подчиненный непосредственно нашему “Я“. В случае аффекта, внутренняя составляющая лишь отчасти зависит от нашей самости, но в большей степени определяется свойствами нашей нервной системы. Отсюда восприятие аффекта как непроизвольного, вынужденного состояния. Мы, как правило, воспринимаем аффективный выбор как навязанный нам извне. Аффект как бы охватывает нас, как внешняя сила, он никогда до конца нам не понятен.
Выше мы отмечали, что эмоциональные и волевые феномены содержат в себе также и чувственную компоненту. Функция этой чувственной компоненты может заключаться, прежде всего, в том, что она как бы “сигнализирует” “вовне” (исполнительным органам) о сделанном субъектом выборе. (Если на меня нападают, я, в зависимости от выбора, могу пережить чувство страха или чувство ярости. Возникающие при этом ощущения могут служить сигналами о сделанном выборе). В других случаях эти ощущения могут служить предметом, на который направлена переживаемая “готовность действовать определенным образом”. (Например, аффект боли можно определить, как переживание готовности действовать таким образом, чтобы исключить или уменьшить интенсивность переживаемого болевого ощущения). Заметим, также, что и сами эмоции и даже воления могут быть предметом эмоциональной оценки, – т.е. возможны эмоции второго порядка, направленные на другие эмоциональные переживания.
Если эмоции не содержат в себе ничего кроме готовности действовать, переживания этой готовности, то, в таком случае, то, что отличает эмоцию от одноименного смысла (например, отличает реальный страх от смысла слова “страх”) — это те же модусы “трансценденции”, “действования”, “самодетерминации”, что и в случае волевых актов, То есть реальный страх отличается от простой “идеи” страха тем, что он предполагает реальную готовность действовать вполне определенным образом в ментальном или реальном плане, тогда как простая “идея” такой определенной готовности не предполагает.
Вместе с тем, отождествляя смысл эмоционального переживания с готовностью действовать определенным образом, мы как бы ставим эмоции в зависимость от действий и, таким образом, переворачиваем обычное отношение между эмоцией и действием. Обычно полагают, что именно эмоции могут являться причиной тех или иных действий, а не наоборот. (Хотя, с другой стороны, действие возможно и без сколько-нибудь выраженного аффекта). Например, обычно думают, что я испугался и именно поэтому убежал. Здесь же получается наоборот — я потому испугался, что намерен бежать. Это намерение — и есть мой страх, хотя, с другой стороны, важно не только само намерение действовать, но и осознание причины этого намерения, и переживание действия на меня “механизма”, принуждающего меня к действию. (С этой точки зрения наша концепция эмоций напоминает известную теорию Джемса-Ланге, хотя в последней эмоция отождествляется даже не с переживанием намерения, а с переживанием чувственных вегетативных коррелятов этого намерения (напряжение мышц, учащение пульса и т.п.)).
Можно несколько смягчить парадоксальный эффект инверсии отношений между действиями и аффектами, а также уточнить отношение волевой и аффективной готовности действовать, если принять во внимание связь нашей воли и аффектов с ценностями. Если волевой акт есть нечто зависимое от ценностной ориентации, то и аффекты возникают не на пустом месте, но зависят от нашей оценки достижимости или недостижимости наиболее важных для нас ценностей. Таким образом, эмоция первично детерминируется не действием, а системой ценностей. Отличие эмоций от эмоционально нейтральных волений, в таком случае, отчасти также может заключаться в связи готовности действовать, сопряженной с эмоциями, с наиболее важными, ведущими ценностями, тогда как “простое” воление, как правило, связано с вторичными, второстепенными, менее важными ценностями. (Статус ценности внутри их иерархии определяется, очевидно, приоритетностью реализации соответствующей готовности действовать). Если готовность действовать порождена ценностями, имеющими высокий статус в иерархии ценностей, то эта готовность обычно переживается как аффект (положительный или отрицательный — в зависимости от того, является ли эта готовность готовностью “обладания” или “избегания”). Вероятно, это происходит потому, что в этих случаях включаются инстинктивные механизмы регуляции поведения. В общем случае, различие волевой и аффективной готовности действовать может проистекать из различия совокупного смысла самой ситуации, в которой возникает и реализуется данная готовность действовать. В частности, разница в смысле здесь касается понимания причин, побуждающих действовать, понимания цели действия и т.д. (Действие, побуждаемое страхом, имеет иные причины и цели, иное отношение к иерархии ценностей, чем действие, побуждаемое радостью, скукой, гневом или эмоционально нейтральным желанием). Наиболее же важное различие воли и эмоций, как уже отмечалась, связано со способностью субъекта рефлексировать и произвольно (т.е. согласно нашей самости, индивидуальности, структуре нашего “Я“) контролировать свою готовность действовать определенным образом. Волевые действия — это действия осознанные и подконтрольные “Я“, тогда как действия, совершаемые под влиянием аффекта, слабо осознаются и слабо подчиняются детерминации, непосредственно исходящей от нашей самости (подробнее об этом см. гл. 4).
Предложенная нами концепция воли и аффектов может показаться чрезмерно субъективистской, ведущей к полной релятивизации и психологизации ценностей. Согласно данной концепции получается, что благо — это просто то, к чему я стремлюсь. Поскольку стремления людей различны — то не существует универсального, единого для всех Блага — как естественной точки “притяжения”, на которую направлены наши стремления. Однако, как нам представляется, предложенная концепция вполне совместима с идеей существования объективного Блага. Указывая, что благое для меня — это то, к чему я стремлюсь, я, по сути, вообще абстрагируюсь от причин, порождающих то или иное стремление, а указываю лишь на характер субъективной данности переживания аффекта или воления, направленного на достижение благого. Выше мы отмечали множественность источников, определяющих направленность нашего выбора действий. Сюда входят не только “субъективные” источники (самость), но и объективные (законы логики, разум). В число этих источников может включаться и некое объективное Благо (которое Аристотель определял как “то, к чему стремятся все”). Различия в понимании благого, в таком случае, можно объяснить различной способностью субъектов к восприятию объективного Блага, различной их причастностью к Благу. Концепция объективного Блага позволяет понять, почему человек способен раскаиваться в своих поступках, испытывать угрызения совести, творить зло, понимая его именно как зло и, испытывая влечение к злу, что не делает, однако, это зло благом.
Если готовность действовать определенным образом сопровождается пониманием этой готовности, как основанной на воле и желаниях самого субъекта, не имеющих объективного основания, — то она переживается как устремленность к “лично моим”, индивидуальным ценностям. Если же эта готовность сопровождается пониманием ее объективной, надличностной детерминации, детерминации объективным положение дел или тем, что само по себе, по самой своей природе является благим (пример “благого в себе” — всеполнота бытия, понимаемая как гармоничная реализованность всех возможных целей — именно так мыслил Бога Аристотель), то это стремление переживается как стремление к объективному благу и добру. Отсюда и вытекает возможность творить зло, стремиться к злу, сознавая, что это зло.
Итак, мы пришли к выводу, что аффекты и волевые феномены можно рассматривать как особые смыслы, выражающие различные формы и степени готовности действовать определенным образом (а также, выражающие причины, цели и обстоятельства этой готовности) и в силу своей “деятельностной природы” “оснащенные” модусом “трансцендентной реальности”, который позволяет мыслить действия, как продолженные за пределы эмпирической личности, модусом “действования”, который заключается в переживании характера возможного отклика “внешней реальности” на отданную нашей субъективностью “команду”, а также модусом “самодетерминации”, который связан с редукцией спектра возможных направлений актуализации смысловых структур, что создает возможность определенной направленности действия, как в физическом, так и в ментальном плане.
3.3. Мышление
В данном разделе уместно, также, кратко рассмотреть формальные свойства (форму бытия) мышления. Для понимания мышления необходимо учесть функциональную сторону субъективного. Нужно признать, что наша сфера субъективного — это не пассивный “экран”, на который проецируются ощущения, образы и представления и не пассивное хранилище сверхчувственных смыслов. Скорее, это нечто вроде процессора — устройства, осуществляющего сложную обработку информации. Процесс переработки информации, который осуществляется в сфере субъективного, и переживается нами как мышление. В чем, однако, заключается этот процесс?
Мышление, как обычно его представляют, — это процесс порождения (а точнее, выявления, рефлексивного обнаружения) новых смыслов. Но смыслы мы истолковали как потенции, а потенции, вообще говоря, не есть что-то возникающее и исчезающее, ведь в противном случае нам пришлось бы вводить потенции потенций, из которых возникают потенции “первого рода”, что не приемлемо, т.к. ничего не прибавляет к идее потенциальности. Отсюда следует признать, что все возможные потенции изначально наличны, находятся вне течения времени, вне становления, но отличаются степенью готовности к актуализации. Поэтому мышление следует понимать не как создание новых потенций, а как перераспределение готовности к актуализации изначально наличного множества всевозможных потенций. Это перераспределение, с одной стороны, зависит от состояния сферы актуальных переживаний (т.к. потенции всегда есть потенции каких-то актуальных переживаний и должны пониматься как возможности перехода от данных переживаний к каким-то другим переживаниям), а с другой стороны, также должны зависеть от каких-то других внечувственных факторов — в противном случае наше мышление было бы предельно жестко привязано к сфере чувственного. Иными словами, можно предположить существование специфического механизма перераспределения готовности к актуализации потенций, который прямо не связан с динамикой чувственных переживаний.
Это необходимо допустить, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, этим самым мы избавляем смысл от рабской зависимости от чувственности — ведь наше мышление не является пассивной разверткой ранее запечатленной или врожденной информации. Во-вторых, достаточно очевидно, что выражено вовне, отображено в речи, в поведении субъекта может быть лишь то, что само по себе обладает функциональной природой, т.е. каким-то образом “действует”, хотя бы в потенциальном плане (действие одних потенций на другие потенции). (Здесь можно привести пример из физики: мы способны обнаружить потенциальную (волновую) составляющую квантовых микрочастиц только потому, что квантовые потенции способны взаимодействовать — усиливать или ослаблять друг друга — что ведет к наблюдаемым эффектам интерференции, дифракции и т.п.). Поскольку мы можем говорить о потенциях, они также должны каким-то образом “действовать” – в потенциальном плане, разумеется.
Очевидно, что этот механизм, обеспечивающий динамику мышления, можно также рассматривать как некую разновидность механизма воления — поскольку он также осуществляет выбор направления действий нашего сознания. То есть мышление (рассматриваемое с “динамической” точки зрения) — это специфическая разновидность воли. Специфика мышления, как воления в том, что это волевой акт, направленный на познание, получения рефлексивного доступа к новому смыслу, и, кроме того, это акт, осуществляемый во “внутреннем плане”. Иными словами, здесь осуществляется выбор не определенной линии поведения, а выбор того или иного направления актуализации “смыслового поля” — направления движения мысли. Можно сказать, что выбор здесь осуществляется не в поведенческом, а в “ментальном” плане, т.е. в плане представлений, а не действий.
Указывая на связь воли и мышления, мы тем самым утверждаем, что мышление выходит за пределы сферы “чистых смыслов” (и, следовательно, за пределы чистой логики). На это указывает уже временной характер мышления, тогда как чистые смыслы пребывают в Вечности, они вне течения времени. Образно говоря, мы мыслим “всеми силами нашей души”. Отсюда “металогичность” (термин С.Л. Франка [212]) мышления, а также возможность помыслить сам смысл, установить “смысл смысла” (“смысл смысла” — это не только потенциальность, но и место смысла в системе целокупного бытия).
Заметим также, что в процессах мышления участвует не только воля, но и эмоции. Влияние эмоций на мышление отнюдь не всегда деструктивно. Так творческое мышление существенно зависит от эмоционального состояния – видимо в этом случае эмоции вносят определенный позитивный вклад в процесс мышления, повышая его продуктивность.
Различают интуитивное и дискурсивное мышление. Дискурсивное мышление слагается из отдельных, четко рефлексируемых шагов, каждый из которых основан на рефлексируемом правиле вывода. Интуитивное мышление, напротив, осуществляется в один прием и не подчинено какому-либо явно известному субъекту правилу. Не следует, однако, противопоставлять эти формы мышления друг другу. Отметим, что всякое дискурсивное мышление представляет собой, по сути, серию актов интуитивного схватывания (уразумения) того или иного смыслового содержания. Само движение мысли, также, по-видимому, направляется первоначальным дорефлексивным интуитивным схватыванием общего направления этого движения, предвосхищающим конечный продукт мыслительной деятельности. (Эту стадию мышления можно назвать “предмышлением”. Точно так же — вниманию предшествует “предвнимание”, воспоминанию – “предвоспоминание”. Для того чтобы обратить внимание на какой-то объект, нужно уже заранее каким-то образом “иметь” его в сознании, для того, чтобы что-то вспомнить, нужно заранее “знать” что именно содержится в памяти и где искать то или иное фиксированное в ней содержание). Дискурс, таким образом, в конечном итоге, основан на интуиции. (С этой точки зрения прав Ж.П. Сартр, который утверждал, что “Существует только интуитивное познание” [179 с. 200]). В частности, правила вывода — это, по-видимому, продукт рефлексивной фиксации в памяти изначально интуитивных актов сознания. Можно сказать, что дискурс – это как бы некая “застывшая”, зафиксированная в конечных, обозримых формах интуиция. Таким образом, различие дискурса и интуиции связано с рефлексивной способностью, природу которой мы рассмотрим в следующем разделе.
Вместе с тем, не следует думать, что любой акт “уразумения” (интуиции) может быть в полной мере отрефлексирован, переведен в явную, сообщаемую форму. Вообще идея полной “спецификации” мышления, т.е. представления его в виде совокупности неких конкретных правил или “алгоритмов” внутренне противоречива. Всякая спецификация предполагает, что специфицируемое явление с чем-то отождествляется и, одновременно, чему-то противопоставляется. Т.е. специфицируя мышление, мы должны сказать: мышление есть А, но не есть В. Но как это возможно сделать, если В не тождественно никакой мысли, т.е. немыслимо? Утверждая: мышление не есть В – мы тем самым уже должны помыслить это самое В и, следовательно, ввести его в сферу мыслимого нами (хотя бы лишь указательно). Следовательно, ничего абсолютно немыслимого существовать для нас не может – наше мышление не чему в абсолютном смысле не противостоит, ни от чего принципиально не отлично. По крайней мере, мышление должно всегда быть способно как-то иметь в виду, указывать на то или иное, относительно отличное от него сущее, что уже автоматически включает это сущее в круг мыслимых предметов. Таким образом, мышление невозможно исчерпывающим образом специфицировать, а это означает, что если дискурс выводим из интуиции, то, напротив, интуиция отнюдь не обязательно разрешается в дискурс.
Полезно сопоставить мышление и аффективно-волевую сферу со сферой чувственных явлений. Мы видим, что и чувственность, и волю, и мышление, и аффекты можно рассматривать как различные формы развертки (актуализации) единого смыслового поля. Принципиальная разница лишь в механизме развертки. Чувственное восприятие предполагает преимущественно пассивную, зависящую от воздействия извне развертку смыслового поля. Здесь активность нашего “Я“ минимальна и касается преимущественно направленности внимания. В гораздо большей степени активность “Я” проявляется в феноменах воли и мышления. Свободная воля – это и есть область преимущественного проявления нашей самости. Также в наиболее чистом виде активность индивидуального “Я” проявляется в сфере творчества и воображения, в частности, в творческом мышлении. Но в мышлении представлена и надындивидуальная компонента в виде общезначимых законов логики. Поэтому мышление обладает индивидуально-надындивидуальной природой и служит как бы “мостом“, соединяющим индивидуальное и надындивидуальное, всеобщее и единичное, “Я“ и “не-Я“. В случае аффектов развертка смыслов зависит в большей степени не от “Я“ (нашей самости), а от биологических детерминант – строения и функций нашего мозга. (То, что наше “Я“ не тождественно нашей телесности – мы покажем в 5 главе данной работы).
С этой точки зрения мышление, воля и аффекты – это просто различные механизмы восприятия. Если сенсорное восприятие внешнего мира не зависит от воли, желаний и инстинктивных реакций субъекта и детерминировано “извне“ (“объективной реальностью“), то восприятие собственных действий детерминируется либо непосредственно нашим “Я“ (в случае волений), либо нашей биологической организацией (в случае аффектов). Действительно, наши действия даны нам как нечто реальное лишь постольку, поскольку они воспринимаемы. Специфика же восприятия собственных действий заключается лишь в том, что они нами контролируются, управляются, в отличие от восприятия внешних предметов. При этом собственные действия воспринимаются двояко: во-первых, они воспринимаются внешними органами чувств (мы их видим, слышим и т.п.), во-вторых, они первоначально воспринимаются на уровне “внутреннего чувства“ (в случае воления связанного, вероятно, с кинестетической модальностью), которое предетерминирует их восприятие другими сенсорными анализаторами. В случае же мышления волевой выбор ограничивается лишь “внутренним чувством“ и сопровождается некоторой контролируемой субъектом динамикой актуализирумых представлений (а не сенсорных образов).
Таким образом, мы получаем очень простую модель сознания в которой базовым его слоем является смысловое поле и существует по меньшей мере четыре различных канала актуализации (т.е. чувственного восприятия в виде сенсорных образов и представлений) элементов этого смыслового поля – это сенсорное восприятие, воля, мышление (по сути, та же воля, но действующая исключительно во внутреннем плане, т.е. определяющая лишь динамику представлений, но не действий) и аффекты. В качестве отдельного канала актуализации можно рассматривать также и механизм воспоминаний – который, однако, отличен от общего механизма памяти как такового. Действительно, память отнюдь не обязательно должна использовать содержащуюся в ней информацию о прошлом только лишь в виде всплывающих в нашем сознании наглядных представлений. Эта информация может использоваться и вне явных воспоминаний – прямо и непосредственно в сверхчувственной форме – например, в процессе понимания, схватывания смысла происходящего, который отнюдь не предполагает использования каких-либо явных образных воспоминаний.
Итак, сознание состоит как бы из трех компонент: смыслового поля, сферы чувственности и многокомпонентной функции, осуществляющей «отображение» смысловых структур в чувственную сферу. Ясно, что именно эта функция и обеспечивает индивидуацию и динамичность процесса понимания, создает видимость «динамики» смысла. Эта функция может в большей степени использовать одни смысловые структуры, чем другие, делать их более или менее рефлексивно доступными, в большей или меньшей степени влияющими на принятие волевых решений. Именно поэтому смысловая сфера кажется нам индивидуальной, текучей, изменчивой, развивающейся, хотя само смысловое поле, по нашим представлениям, совершенно находится вне процесса становления.
Психологи нередко пытаются описать “механизмы” функционирования сознания в терминах компьютерных наук, и говорят об “операциональном составе” мышления, а также и других психических функций (восприятия, памяти и т.д.) [30]. Предполагается, что мышление слагается из отдельных, четко разделенных во времени “действий” или “операций” с различными информационными единицами. Это предположение явно противоречит данным самонаблюдения. Мы не замечаем в нашем собственном внутреннем мире каких-либо развернутых, поэтапных действий или операций, которые можно было бы связать с процессом построения чувственного образа, процессами осмысления или процессами выработки поведенческих решений. (Факты т.н. “поэтапного посторения образа”, которые обнаруживаются при тахистоскопическом предъявлении изображений испытуемому, с нашей точки зрения можно объяснить как артефакты, создаваемые самой ситуацией ограничения времени рассматривания тестового изображения). Только в случае решения достаточно сложных задач наше мышление или восприятие реально распадается на отдельные рефлексируемые этапы. В более простых случаях нам субъективно, как правило, сразу дан конечный результат: сформированный образ, полный смысл воспринятого, готовая идея или решение. Никакого становления образа, смысла или решения мы, по крайней мере, в случае достаточно простых сенсорных или интеллектуальных задач, не обнаруживаем. Отсюда, собственно, и проистекает распространенное мнение, что формирование образа, осмысление, принятие решений и многие другие функции осуществляются “бессознательными” (в смысле, находящимися целиком за пределами феноменально данного) механизмами, а в феноменальной форме нам представлен лишь конечный результат деятельности этих механизмов.
Ошибка здесь заключается в предположении, что упомянутые функции сферы субъективного должны с необходимостью осуществляться наподобие того, как это происходит в компьютере — в виде развернутой во времени серии операций с отдельными единицами информации. Однако нет никакой необходимости думать, что подобный сукцессивный, развернутый во времени способ обработки информации является единственно возможным. Прямое самонаблюдение показывает, что осознанное “понимающее” восприятие окружающего осуществляется симультанно — в виде целостного, “надвременного” (не развернутого во времени, но и, вместе с тем, имеющего ненулевую временную протяженность) акта “схватывания” содержания и смысла воспринимаемого. Нет оснований думать, что за этой феноменально наблюдаемой картиной функционирования сознания скрывается некий сукцессивный, развернутый во времени процесс. Думать так — это значит превращать сферу субъективного в эпифеномен, в неадекватное и бесполезное отображение некий действительных “мозговых механизмов”, осуществляющих высшие психические функции.
С нашей точки зрения сфера субъективного (“Я”, сознание) является подлинным, активным психическим деятелем — субъектом психических функций. Какими мы переживаем психические функции — такими они и являются на самом деле. То есть, представляют собой нечто вневременное, непространственное, симультанное, неразложимое на дискретные единицы.
Понять природу функции сознания нам поможет представление о потенциальной природе внечувственной, смысловой его составляющей. Следует предположить, что осмысление, вообще любая текущая обработка информации в сознании, осуществляется в “потенциальной” форме — в особом бытийном модусе, в котором отсутствует явная временная динамика переживаний. С этой точки зрения мнимое “неприсутствие” процессуальной стороны функции сферы субъективного — есть лишь следствие этой “потенциальности”. Следует отказаться от неадекватного взгляда, что всякая процессуальность возможна лишь как пространственно-временная последовательность отдельных “актов”. На это непосредственно указывает анализ нашей собственной сферы субъективного.
С этой точки зрения специфика сознания как “функционального органа” заключается в том, что здесь отсутствует какой-либо “внутренний механизм”, опосредующий связь “входа” и “выхода” данного “функционального органа”. Существование такого “внутреннего механизма” следует исключить, также, и по той простой причине, что наше интроспективное знание собственных субъективных переживаний может быть лишь знанием “макрофункции” сферы субъективного (т.е. функции сферы субъективного как единого целого), но не может быть знанием “микрофункций” из которых “слагается” данная “макрофункция”. Если бы “микрофункции” — как скрытые (но реально существующие) “механизмы сознания” существовали — именно в составе феноменального сознания, — то мы не имели бы истинного представления даже о собственных субъективных переживаниях. Но в таком случае субъективный мир — как феномен самопрозрачности, самоданности, открытости себе бытия — не существовал бы вовсе.
Поскольку феномен субъективного бытия существует, необходимо признать, что никакого определенного “способа” или “механизма реализации” функции сознания (а, следовательно, и мышления) не существует. Отсутствует какой-либо имеющий качественную, пространственную и временную определенность процесс, опосредующий связь “входа” и “выхода” сферы субъективного. Имеет место непосредственное преобразование “входа” в “выход” без всяких промежуточных звеньев или промежуточных механизмов. Это свойство функционирования сферы субъективного можно обозначить термином “спонтанность”. Мышление, таким образом, невозможно специфицировать ни с точки зрения его содержания (“алгоритма”), ни с точки зрения его “операционального состава” (временной последовательности осуществления этого алгоритма).
Отсутствие “внутреннего механизма“ мышления предполагает сущностное тождество феноменологии и функции сознания. Т.е. мы должны признать, что действие сознания и соответствующее ему феноменальное переживание – суть одно и то же. Как это возможно? Действие сознания очевидно связано с детерминацией поведенческого выбора. Выбор осуществляется из системы альтернатив, которые, по нашим представлениям, изначально содержатся в составе смыслового поля. Функция сознания в таком случае сводится к селекции альтернатив – выбору тех компонент смыслового поля, которые соответствуют восприятию тех или иных желаемых нами действий (сам этот выбор, очевидно, зависит от структуры, иерархической упорядоченности элементов самого смыслового поля). Т.е. функция сознания в данном случае непосредственно тождественна временной динамике феноменальных (чувственных) переживаний, точнее говоря, той части динамики – которая зависит от наших волевых решений. При этом сама эта динамика определяется непосредственно содержанием нашей чувственности и смыслового поля и не предполагает какого-либо “внутреннего механизма“, отличного от непосредственно данного нам чувственного и свехчувственного содержания нашего сознания. Последнее, собственно, и означает, что сознание не является эпифеноменом, но само (в качестве феноменальной реальности) осуществляет те волевые и интеллектуальные акты, которые мы ему непосредственно приписываем. (Это само по себе уже исключает понимание сознания как функции нейрофизиологического субстрата. См. подробнее гл.5). Эту идею сущностного тождества функции и феноменологии можно (как мы увидим ниже) интерпретировать еще и так: время существует только внутри сознания и, следовательно, вне сознания вообще ничего не происходит. Это означает, что не работа мозга производит сознание, но напротив, движение сознания вдоль временной оси производит эффект видимости работы мозга. Зависимость характера восприятия стимула от времени его предъявления тогда определяется не процессом микрогенеза восприятия, а тем, что стимул нужно изначально рассматривать как протяженный во времени объект и, следовательно, короткий и длинный стимулы есть реально разные объекты и поэтому они дают при их временной развертке в сознании разные сенсорные образы. Мозг в этой модели, хотя сам по себе пассивен, оказывает модулирующее воздействие на активное сознание. Здесь уместна такая аналогия: можно уподобить сознание лучу света, а мозг — системе светофильтров, через которые этот свет проходит, подвергаясь при этом определенным изменениям. Сознание способно отчасти выбирать свою траекторию прохождения через этот мозг-фильтр — изменяя таким образом его модулирующее воздействие и, следовательно, осуществляя саморегуляцию.
3.4 Природа рефлексии. Сознание и бессознательное
Рефлексию мы далее будем понимать, прежде всего, как способность человека описывать содержимое собственной сферы субъективного. Мы способны описать как чувственную, так и внечувственную (идеальную) составляющие собственной субъективности. Я способен дать отчет о том, что я вижу, слышу, осязаю и т.д. в данный момент и, кроме того, я способен описать сопряженные с моими чувственными переживаниями смыслы: я могу ответить на вопрос — в чем смысл того или иного чувственного образа, слова или представления.
Однако существует важное различие между чувственной и направленной на смыслы рефлексией. Поскольку смыслы мы выше определили как “чистые потенции”, которые сами по себе лишены актуального бытия, даже за пределами сферы субъективного, то отчет о содержании той или иной смысловой “единицы” (понимаемой как совокупность непосредственно готовых к актуализации потенций, сопряженных с конкретной, переживаемой в данный момент времени, чувственной единицей: словом, образом, представлением) требует промежуточного этапа – “развертки” данного смысла в совокупность актуальных элементов (представлений, слов), которые далее и описываются субъектом в акте рефлексии, составляют содержание рефлексивного акта.
Таким образом, получается, что мы описываем не сами потенции, составляющие собственное бытие смысла, а результаты их актуализации, “развертки” — которые отличаются от смыслов, по крайней мере, иной формой бытия. С этой точки зрения отдельные смыслы как таковые (как потенции) никогда прямо не являются предметом рефлексии (по крайней мере в их дифференцированной форме). Они всегда отражаются в самоописании лишь косвенно, через их развертки или актуализации. Сами же смыслы существуют всегда как некий “фон”, как “смысловая рамка”, обрамляющая актуальные переживания, которые, собственно, и составляют непосредственное содержание рефлексии. Перенос направленности рефлексивного акта на элементы этого “фона” по сути “уничтожает” эти элементы как смыслы (точнее, не уничтожает (смыслы неуничтожимы в силу своей вневременной природы), но меняет форму их бытия — делая их из потенциальных — актуальными).
Это, однако, не означает, что смыслы непознаваемы. Прежде всего, было бы странным назвать смысл непознаваемым, поскольку смысл и есть не что иное, как “знание”, причем “знание, знающее себя”, т.е. не нуждающееся во внешнем познающем субъекте. Поскольку же мы способны рефлексировать смысл и с точки зрения его формы, т.е. как “потенциальность”, то, очевидно, должна существовать и некая иная форма рефлексии смысла, не связанная с его актуализацией, но осуществляемая непосредственно в самой сфере потенциального. Эта форма рефлексии, однако, не дает нам развертки, раскрытия смысла – но дает лишь его интуитивное видение как нерасчлененного целого. Можно сказать, что эта форма рефлексии осуществляет здесь лишь как бы некое “указание” на смысловое поле в целом, не меняя при этом потенциальной формы бытия смыслового поля. Тем не менее, это “указание” (знание “о” смыслах, не являющееся, при этом, “знанием самих смыслов”) должно рано или поздно быть актуализировано, переведено в чувственный, пространственно-временной план – например в какой-то символической форме, поскольку только в этом случае оно может быть сообщено вовне.
Из всего сказанного следует, что рефлексивный акт вообще не есть сам по себе акт познания, но есть лишь средство, позволяющее “сообщить” смысл вовне. Точнее говоря, смысл даже и не сообщается вовне — то, что мы произносим какие-то осмысленные слова, не означает, что они “уносят” с собой смысл. Смысл остается всегда там, где он только и может существовать — внутри сферы субъективного.
Фраза “слова переносят смысл” означают, что данная последовательность звуков способна породить в сфере субъективного слушающего смысловые структуры, сходные с теми, которые породили сам акт говорения в сознании говорящего. (Конечно, опять-таки, смыслы здесь не “порождаются”, но “проявляются”, обретают непосредственную готовность к актуализации). В этом заключается значение рефлексивного акта для “слушающего”, т.е. “внешнего наблюдателя” (если таковой существует). Каково же значение рефлексии для самого рефлексирующего субъекта?
Прежде всего, нам необходимо выяснить: что же такое “субъект” рефлексии? Если мы отвергаем теорию “трансцендентного” “Я”, то, очевидно, субъектом следует считать саму сферу субъективного в целом, в частности, “смысловое поле”. Если отдельный смысл — это “знание”, то все “смысловое поле” — это одновременно и “знание”, и то, что “знает”. Иначе говоря, “смысловое поле” само является субъектом осмысления, понимания, познания, само познает себя как в целом, так и в каждой своей части. Ведь познать, понять что-то — это и означает — включить познаваемое в систему индивидуальных смыслов. Таким образом, смыслы, будучи потенциально предметом рефлексии, сами включаются в состав средств рефлексии, являясь функционально, пока они не стали актуально предметом рефлексии, чем-то подобным “невидимому (рефлексивно) видящему”, т.е. трансцендентному субъекту.
Все это означает, что рефлексию не следует понимать как своего рода “просвечивание” сферы субъективного с целью обнаружения скрытого от самого субъекта знания. Рефлексия — это не познание, а скорее лишь изменение формы знания: “знание себя” превращается в “знание о себе”. Все, возможно бесконечное, заключенное во мне дорефлексивное знание, будучи тождественным моему “Я”, всегда в наличии, всегда в полном объеме присутствует в каждом текущем актуальном состоянии субъективности, причем присутствует именно в той форме, в какой оно, это знание, реально существует — в виде “смыслового фона” актуально переживаемого, т.е. в виде бесконечной сети взаимообусловленных, раскрывающихся друг через друга потенций. “Смутность”, неопределенность этого фона, как он непосредственно переживается, — это отнюдь не следствие нашего незнания, неспособности пережить “в подлиннике” бытие смыслов. Это есть собственная форма существования смыслов — будучи “предчувствиями”, они не есть еще чувства, в них нечего чувствовать, они еще не обрели определенность, оформленность, а есть лишь возможность оформленности и определенности.
Если смыслы даны нам такими, какими они существуют “на самом деле”, “в подлиннике”, то это означает, что наша субъективность никогда нас не обманывает. Она всегда “выдает себя за то, чем она является” [213], она до конца “прозрачна”, не имеет “скрытого плана” или “непостижимой глубины”. Да и откуда “скрытому плану” взяться, если мы имеем здесь знание, совпадающее с субъектом и объектом данного знания.
Смыслы, обладающие малой готовностью к актуализации, выглядят как некая “глубина” сферы субъективного — это то знание в нас, о котором мы как бы не знаем. Однако, и эти “глубинные” смыслы на самом деле в пределах интуитивного самознания совершенно четко просматриваются с “поверхности”. Ведь все эти смыслы, на равных правах с остальными, входят в состав “смыслового фона” и, хотя их присутствие никак не замечается, их отсутствие сразу было бы замечено, т.к. привело бы к искажению понимания окружающей действительности.
Итак, мы видим, что смыслы на дорефлексивном, интуитивном уровне нам абсолютно известны, так как тождественны нашему “Я”, представляют собой “знание, знающее себя” и не нуждаются во внешнем познающем субъекте. Зачем же тогда нужна рефлексия для самого субъекта, если он уже изначально как бы все знает? Зачем нужно еще “выворачивать” смыслы через сферу актуально переживаемого, если вовне собственно нет никого, кто мог бы эти смыслы “разглядеть”? Вместе с тем, очевидно, что рефлексия нужна не только для того, чтобы сообщать свои мысли окружающим. Как нам представляется, та польза, которую сам субъект извлекает из рефлексивного акта, заключается в том, что “развертывая” смысловые структуры так, чтобы они могли быть “видимыми” извне, субъект делает их доступными каким-то “внешним”, вспомогательным механизмам сознания, которые непосредственно не входят в состав эмпирического “Я” (т.е. неподвластны воле субъекта и непроницаемы для рефлексивного самонаблюдения), но которые, по-видимому, играют большую роль в осуществлении психических функций. Через посредство этих механизмов сфера субъективного способна оказать воздействие на саму себя через “внешние контуры” обратной связи, осуществляя таким образом саморегуляцию, настраивая саму себя, контролируя собственное функционирование.
“Выходя” через сферу актуальных переживаний “вовне”, смысл, благодаря этим “механизмам”, обретает бытие за пределами эмпирического “Я” и становится орудием саморегуляции сознания. Таким образом, благодаря этим внешним “механизмам”, сфера субъективного как бы овладевает собой и возникает то качество, которое обуславливает специфику сознания — произвольность. Иными словами, для того, чтобы овладеть собой, нашему “Я” необходимо как бы некое “зеркало”, в котором оно могло бы увидеть себя со стороны, так же, как, например, гимнасту необходимо зеркало для того, чтобы контролировать правильность своих движений и, таким образом, овладеть своим телом.
Смыслы, которые осознаются, рефлексируются, становятся не просто знанием, но знанием контролируемым, знанием, которое не просто в наличии, но о котором мы знаем, что оно есть и знаем, в чем оно заключается и, следовательно, можем его использовать в нужный момент. Такое осознанное знание более устойчиво, его можно востребовать в любой момент и придать ему ту форму, которая необходима.
На истинную природу рефлексивного акта, как нам представляется, указывает известный феномен “задержки осознанного выбора” [272]. В эксперименте испытуемого просили сделать спонтанный выбор между несколькими альтернативными действиями. Точное время принятия решения фиксировалось путем отождествления момента выбора с определенным положением в пространстве вращающегося по окружности светового пятна. Одновременно регистрировались изменения в электроэнцефалограмме, отражающие принятие определенного решения на уровне нейрональных процессов. Как оказалось, момент осознания собственного решения, фиксируемый по положению светового пятна, запаздывал по отношению к моменту появления электрофизиологических коррелятов принятия решения в среднем на 350 — 500 мсек., т.е. физические процессы в мозге отражали принятие решения раньше, чем субъект осознавал свой собственный выбор.
Этот парадоксальный, на первый взгляд, результат, по нашему мнению, отражает тот факт, что рефлексия не есть прямое и непосредственное самоосознание сферы субъективного. Осознание собственных субъективных состояний требует внешней опоры — того самого “зеркала”, в котором наше “Я” могло бы “увидеть” себя со стороны. Таким “зеркалом” и является физиологический процесс, отражающий принятие решения раньше, чем субъект осознает это решение. Этот процесс — и есть та внешняя петля обратной связи, с помощью которой наша субъективность осознает и контролирует себя.
Вместе с тем, рефлексия — это весьма непростое дело. На самом деле, рефлексивно (осознанно) нам известны лишь отдельные фрагменты или компоненты составляющего нас знания (причем иногда могут быть известны в неверной, искаженной форме). Очевидно, это зависит как от структуры самого “смыслового поля”, так и от механизмов рефлексии.
Как уже отмечалось, различные смыслы имеют в каждый момент времени различную готовность к актуализации, причем эта готовность зависит, во-первых, от текущих актуальных переживаний, с которыми соотносительны данные смыслы, а, во-вторых, поскольку нет абсолютно жесткой привязки смыслов к актуальным переживаниям, готовность к актуализации должна зависеть также и от каких-то других, чувственно никак себя не проявляющих факторов.
Актуализация, однако, — это лишь необходимая предпосылка рефлексии. Простой развертки смысла в виде последовательности представлений, действий и т.п. не достаточно, чтобы рефлексивный акт состоялся. В противном случае рефлексия бы просто совпадала с актуализацией, а поскольку любой смысл как потенция рано или поздно себя как-то проявит, практически вся “задействованная” часть “смыслового поля” была бы достаточно быстро осознана. Однако мы на самом деле обладаем и пользуемся знанием, о котором “явно” ничего или почти ничего не знаем. Например, на дорефлексивном уровне я “знаю”, что нужно делать, чтобы не упасть с велосипеда и пользуюсь этим знанием, т.е. это “знание” актуализируется, проявляется в моих действиях. Но, однако, проявленность этого знания не эквивалентна его отрефлексированности. Необходимы еще специфические “средства рефлексии” — прежде всего понятийный аппарат, с помощью которого было бы возможно “схватить” и зафиксировать содержание “проявленных” смыслов. Наш язык, тот аппарат понятий, на который он опирается, — это и есть основное орудие рефлексии.
Что, однако, означает: “схватить и зафиксировать смысл” с помощью слова, языковой конструкции? Очевидно, это означает способность генерировать такую последовательность звуков (или знаков) с помощью которой можно было бы воспроизвести в субъективности другого человека или в собственной субъективности заданную систему смыслов (в последнем случае происходит как бы “самокопирование” смысла). Конечно, “воспроизвести смысл” означает лишь “воспроизвести структуру готовностей к актуализации”. При этом слова действуют, по всей видимости, не только и не столько через свою “чувственную оболочку”, но через те “внечувственные” факторы и механизмы, которые способны, минуя актуальные переживания, прямо воздействовать на смысловую сферу. По всей видимости, эти факторы связаны с теми внешними механизмами “саморегуляции” сферы субъективного, о которой мы говорили выше.
Ясно, что “средства рефлексии” не даны нам от рождения. Их нужно приобретать, обучаться рефлексии, усваивая, в частности, понятийный аппарат, способный выразить те или иные фрагменты нашего дорефлексивного знания. Первично, средства рефлексии обретаются, по-видимому, путем наблюдения за конкретными развертками смыслов в наших чувственных переживаниях и поведенческих актах, а затем уже соответствующие смыслы фиксируются с помощью языковых средств. (Например, мы наблюдаем определенный ряд чувственных переживаний, собственных действий, а затем обозначаем актуализируемый через них смысл определенным словом, например “страх”, “мужество”, “удовольствие” и т.д.). В частности, рефлексивное знание самого языка первично обретается через наблюдение за собственной языковой практикой.
Таким образом, проблема рефлексируемости – это, прежде всего, проблема наличия средств рефлексии. Расширяя арсенал таких средств, мы увеличиваем и область “явного”, осознанного знания. Однако полное самосознание, как уже отмечалось ранее, по-видимому, принципиально невозможно, поскольку это привело бы к парадоксальной ситуации — возможности “сообщить” свое “Я” другому, что привело бы к возможности неограниченного “размножения” “Я”. Следовательно, остается предположить, что дорефлексивное знание, составляющее наше “Я”, бесконечно по объему. Отсюда следует, что задача рефлексии — это бесконечная задача. Причем она бесконечна не только “вширь”, но и “вглубь” — ведь каждый единичный смысл может быть полностью раскрыт только в контексте всего бесконечного смыслового поля и, следовательно, расширение сферы рефлексивного знания неизбежно приводит к переосмыслению уже достигнутого знания о себе.
Отметим, что задача рефлексии особенно сложна в том случае, когда речь идет об осознании собственной эмоциональной, мотивационно-потребностной и волевой сферы. Именно в этой сфере, как, в частности, показывает психоанализ, наши знания о себе наименее достоверны, ненадежны, подвержены искажению. Причина этого, как нам представляется, не только в существовании специфического механизма “психологической защиты”, но и в уникальной, непостижимой в своей уникальности, природе “Я”, которая, как мы полагаем, проявляется в эмоциональных и волевых явлениях.
Аппарат рефлексии есть, по существу, не что иное, как система, обеспечивающая доступ “извне” к структурам смыслового поля. В целом, наш понятийный аппарат (язык) – это как бы “система координат”, которая позволяет осуществлять указание того или иного избранного “места” в составе смыслового поля, т.е., иными словами, функция понятий – “указывать на идеи” (именно так, в частности, понимал функцию понятийного мышления В.С. Соловьев [194]). Поскольку смысловое поле, как мы далее увидим, для всех едино, то указывая ”координаты” тех или иных ”мест” внутри смыслового поля, мы можем передавать ту или иную смысловую информацию другому человеку. Т.е. наши слова передают не смысл как таковой, но некие ”координаты места” в смысловом поле, где соответствующий смысл может быть обнаружен другим субъектом. Комбинируя понятия, мы можем “выделять” те или иные специфические “участки” смыслового поля. Но, если это комбинирование осуществляется чисто механически, оно может привести к “указанию” на некие “невозможные объекты” (круглый квадрат и т.п.), не имеющие никакого смысла, т.е. может осуществляться акт “ложного указания” “за пределы” смыслового поля. В этом заключается опасность, с которым сталкивается формализованное мышление, лишенное непосредственной опоры на интуицию.
Поскольку мы рассматриваем “рефлексивность” как сущностное определение сознания, то мы можем рефлексируемое отождествить с “осознаваемым”, а дорефлексивное — с бессознательным. Отсюда, в частности, следует, что граница между сознанием и бессознательным отнюдь не совпадает с границей между чувственным и внечувственным (актуальным и потенциальным). (Заметим, что в таком духе (как различие актуального и потенциального) разницу между сознанием и бессознательным понимали Ф. Брентано и Э. Гуссерль — по Гуссерлю, это различие между “тематическим” и “нетематическим” содержанием сознания). В частности, если под “сознанием” понимать также и то, что осознает, то следует признать, что сознание — это именно сверхчувственная (потенциальная, смысловая) составляющая субъективного. Однако, на самом деле “субъект” и “объект” неразрывно связаны, по сути, тождественны в сфере субъективного и, таким образом, сознание следует понимать не как выделенную область в составе нашей субъективности, а как особую форму организации сферы субъективного в целом — такую форму, которая, в частности, делает возможным произвольное манипулирование смысловыми единицами, оперирование смыслами высокой степени общности и т.д. Очевидно, что такая сложная структура субъективного не возникает сама собой и, даже возникнув, требует, по-видимому, “внешних” средств, которые поддерживают ее в рабочем состоянии. То есть, иными словами, функционально “механизм” сознания выходит за рамки эмпирической личности, имеет “субъктивно-объективную” природу.
Отсюда можно вывести иное определение бессознательного, Под бессознательным можно понимать также те “мозговые механизмы”, которые находятся целиком за пределами сферы эмпирического “Я”, но принимают участие в осуществлении “высших психических функций”. Этот вид бессознательного — уже не есть совокупность нерефлексируемых потенций моей эмпирической личности. Это бессознательное, может быть, обладает вполне автономным бытием, но это бытие целиком лежит за пределами “имеющегося” в составе моего эмпирического “Я”.
В обоих случаях различие между “сознанием” и “бессознательным”, с нашей точки зрения, не является онтологическим различием (т.е. различием по форме бытия). Это различие чисто функционально – т.е. это различие по тому “положению”, которое то или иное содержание сферы субъективного занимает по отношению к деятельности субъекта. Это обстоятельство позволяет нам понять, каким образом возможна рефлексия той самой “формы” сознания (субъективности), которую мы исследуем в данной работе. Сама возможность знать “форму” в которой существует само знание – может показаться парадоксальной. Ведь знание – есть всегда некое “содержание”. Таким образом, пытаясь познать “форму” мы неизбежно превращаем ее в “содержание”. Как же “форма”, оставаясь “формой”, может выступать в качестве “содержания”? Этот парадокс решается, если мы учтем, что познание того или иного предмета (в составе сферы субъективного) не есть (по крайней мере, в некоторых случаях) что-то принципиально отличное от бытия этого предмета. “Знать” (осознавать) предмет – это значит поставить его в некое специфическое функциональное отношение к деятельности субъекта – такое отношение, которое делает возможным “отчет” об этом предмете, целенаправленное использование этого предмета и т.д. Следовательно, “форма”, становясь объектом рефлексии, не обязательно должна менять свой способ существования. Она, по крайней мере, в некоторых случаях, лишь “ставится в некоторое специфическое функциональное отношение”, оставаясь, при этом, тем, чем она является. Можно сказать, что осознание может иметь характер “указания” на то или иное субъективное содержание, которое это содержание никак само по себе не изменяет. (Однако если осознание направлено на расчленение, дифференциацию смыслового поля – то, как мы видели, оно приводит к изменению его формы бытия). Если бы это было не так, т.е. если бы акт рефлексии всегда изменял форму бытия рефлексируемого содержания, то тогда никакое подлинное знание о собственном внутреннем мире, особенно знание о форме его бытия – было бы не возможно (мы всегда знали бы не то, что есть на “самом деле”). Но мы такое знание о форме бытия субъективного имеем (в частности, мы знаем, например, что существуют “цвета” – как субъективный способ (форма) кодирования информации о длине световой волны).
Заметим, что вообще знание о форме чувственных переживаний (т.е. знание о качествах, о пространстве и времени) – также носит “указательный” характер. Сама эта форма чувственности – есть нечто инородное смыслу, есть как бы та “материя”, в которой смысл воплощается, когда он становится образом. Следовательно, мысль, как таковая, “проникнуть”, например, в чувственное качество, или в пространственность и временность (как формы чувственной данности) не может. (Чистое чувственное качество, чистая пространственность и чистая временность сами по себе не имеют смысла, в них просто нечего мыслить — поэтому Платон и говорил, что “материя” постигается с помощью “незаконнорожденного умозаключения”). Мысль может лишь указывать на эти феномены как на некую голую фактичность. Это указание возможно в силу интегрированности чувственности в единое перцептивно-смысловое поле. Не схватывая, например, смысла самой качественности как таковой (например, “смысл синего цвета”), наша мысль способна определить отношение данного качества к другим качествам, или же к каким-либо иным, чувственным или сверхчувственным составляющим сферы субъективного, т.е., не мысля само качество, мы способны мыслить “о” качестве. Пространство и время отчасти проницаемы для мысли, поскольку имеют инвариантную структуру (независимую от формы представленности) – чистую протяженность. Но пространственность и временность – как специфические формы, в которых нам дана эта протяженность, для мысли непроницаемы. Об этих формах можно мыслить лишь указательно или соотносительно (соотнося их с чем-то другим). Таким образом, мы во всех случаях не можем мыслить саму форму чувственности, но можем мыслить “о” форме чувственности, соотнося ее с чем-то внеположном. Эта способность “мыслить о” чем-либо – неограниченно расширяет возможности мышления, включая все даже инородное мысли в сферу мыслимого. Поэтому, как уже отмечалось, мысль не от чего не отлична, не чему не противостоит, способна ассимилировать любое содержание. Даже немыслимое мыслимо в качестве “немыслимого”, т.к. и оно может быть помыслено указательно (“остенсивно”).
До сих пор мы рассматривали рефлексию как способность субъекта описывать содержимое собственной сферы субъективного (т.е. фактически отождествляли рефлексию с интроспекцией). Однако возможен и несколько иной подход к пониманию сущности рефлексивного акта. Под рефлексией можно также понимать способность субъекта к образованию специфической идеи “самого себя” — как субъекта (субъекта восприятия, мышления или действия), в противоположность “внешнему миру” — как объекту. Иными словами рефлексия здесь понимается как способность к осознанию себя в качестве субъекта познания и деятельности — противоположного “объективной реальности”, являющейся предметом познания и деятельности.
Возникает вопрос: каким образом вообще возможна такая идея “себя”, как чего-то противоположного “внешнему”, и как она связана с нашей способностью к самоотчету? Проще ответить на второй вопрос. Ясно, что способность к самоотчету и самоосознание непосредственным образом предполагают друг друга. Для того чтобы описать содержимое собственной сферы субъективного, необходимо предварительно выделить, опознать субъективное именно как субъективное, как мой собственный внутренний мир, отличный от внеположной “объективной реальности”. С другой стороны, я способен осознать содержимое сферы субъективного как “внутренний мир”, лишь постольку, поскольку имею интроспективный доступ к содержимому этого внутреннего мира, т.е. поскольку обладаю способностью описывать собственные “внутренние состояния”.
Некоторая парадоксальность способности к самоосознанию заключается в том, что, осознавая себя как “внутренний мир”, противоположный “внешнему миру”, субъект как бы “раздваивается”, дистанцируется сам от себя — помещает себя в точку, в которой устраняется различие субъекта и объекта и, таким образом, открывается возможность обозревать субъект-объектные отношения со стороны, извне, преодолевая замкнутость внутри собственной субъективности. Если бы субъект постоянно пребывал исключительно “в себе самом”, был ограничен своим собственным внутренним миром, он был бы не способен осознать себя как “замкнутый мир” и выработать представление о “трансцендентной реальности”, т.е. реальности, находящейся за пределами эмпирического сознания. Таким образом, проблема самоосознания неразрывным образом связана с проблемой “трансцендентного предмета” (как мы вообще способны помыслить какую-либо реальность за пределами нашего “Я”). Этой проблемой мы вплотную займемся в четвертой главе, а пока же подведем предварительные итоги обсуждения феноменального строения сознания.
Мы установили состав и основные формальные свойства субъективного. Таковыми являются: наличие актуального и потенциального содержания субъективного бытия, целостность, временная нелокальность, качественная разнородность чувственных переживаний. В целом, сфера субъективного имеет “трехслойную” структуру: первый слой — это чувственность, второй слой — эмоции и воля и третий — область “чистых смыслов”. Как мы увидим далее, “чистые смыслы” обладают, по всей видимости, надындивидуальной природой и таким образом субъективность на этом уровне уже не является замкнутой в себе сферой — она разомкнута, укоренена во всеобщем надындивидуальным бытии — Абсолюте.
4. Я И АБСОЛЮТНОЕ БЫТИЕ
4.1 . Обоснование антинатуралистического понимания сферы субъективного. “Я” и внеположная реальность
Натуралистическое понимание сознания (сферы субъективного), как мы его определили во Введении, исходит из положения, согласно которому мое сознание (“Я”) есть лишь некая выделенная и очень малая часть совокупного бытия, притом жестко привязанная к выделенной части мира — к моему телу и мозгу. Т. е. мое “Я” есть нечто локальное, ограниченное и за пределами “Я” находится то, что обычно называют “объективной реальностью”, т. е. существующий вне и совершенно независимо от моего сознания мир.
Совокупность всего, что существует в мире (Мир как целое) может соотноситься каким-либо образом лишь к самим собой (т.к. вне этой совокупности ничего нет). Следовательно, совокупность всего существующего можно назвать “безотносительным” или “Абсолютным” бытием, или, для краткости, “Абсолютом”. Натурализм полагает, что “Я” есть некая выделенная часть Абсолюта. Но еще древнеиндийская философия провозгласила противоположное понимание отношения “Я” и Абсолюта: “Тат твам аси” (Шветашватара упанишада. IV, 3.) (“То есть ты”). Это, видимо, нужно понимать так: “Я во всем и я есть все. Я есть Абсолютное бытие и никакого бытия вне меня не существует”.
В европейской философии основания для отождествления “Я” и Абсолюта в наиболее последовательной форме впервые изложил И.Г. Фихте [209]. Основания эти заключаются в том, что я не способен “выпрыгнуть из себя”, не способен не только достоверно знать, но даже и помыслить бытие, которое абсолютно трансцендентно моему сознанию, т. е. которое существует вне и независимо от моего “Я” (т. н. “бытие в себе”).
Действительно, как я могу помыслить предмет, который никак не соотносится с моим существованием, не находится в каком-либо соотношении с моим “Я” и, следовательно, находится за пределами всякого возможного опыта? Мы как правило различаем предмет знания и само наше знание о предмете. Знание рассматривают обычно как нечто субъективное — это то, что “имеет место в сознании”. Предмет знания — это, напротив, то, что лежит “за пределами сознания”. Знание, поскольку оно есть знание о данном предмете, должно каким-то образом “указывать” на этот предмет. (В этом состоит свойство “интенциональности” сознания). Но как сознание может указывать на то, что находится целиком за его пределами? Чтобы осуществить такое “указание”, мое “Я” должно каким-то образом “выйти из себя” — получить прямой доступ к познаваемому объекту, к внеположной по отношению к моему “Я” реальности. Если сознание имеет дело только с репрезентациями, т. е. только со своими собственными состояниями, а не с вещами, то никакой “подлинной идеи объекта” (т. е. такой идеи, которая имела бы в виду “сам объект”, а не его репрезентацию, не мысль об объекте, не образ объекта) быть не может.
Подлинная идея объекта не может быть ничем иным, как самим объектом, поставленным в определенное функциональное отношение к деятельности субъекта. Такое отношение мы и называем “познанием”.
Таким образом, если мы действительно познаем объекты, а не собственное знание об объектах (в виде мыслей, образов, представлений), то наше сознание должно вступать с этими объектами в непосредственный контакт — даже если этот объект находится в другой галактике. Можно в таком случае утверждать, что все возможные объекты моего опыта должны как-то, хотя бы потенциально, изначально содержатся в составе моего “Я”, и не являются, таким образом, чем-то чуждым моему “Я”, чем-то запредельным ему. Только в этом случае я и могу вступать в “прямой контакт” с самими вещами — ведь все, что мне доступно прямо и непосредственно — это и есть мое собственное “Я”: его содержание, его свойства, его структура. Ничего “запредельного” (трансцендентного) моему сознанию (сфере субъективного) в таком случае не существует. Ведь “трансцендентный предмет” не может являться предметом мысли. Мысль не способна на него указывать, не способна иметь его “в виду”. (Сознание так трудно как-то идентифицировать, определить именно потому, что оно не отлично ни от чего другого, от любого предмета в мире (есть “не иное” — по терминологии Н. Кузанского)).
Известна точка зрения Н.О. Лосского [114], который полагал, что познаваемый объект входит в состав сознания (имманентен сознанию), но не входит в состав “Я” (трансцендентен “Я”). В этом случае “Я” — есть лишь некое “ядро”, субъективный полюс сознания. Само сознание мыслится, в этом случае, как система отношений между “Я” и всевозможными предметами знания. Т. е. сознание здесь не есть субстанция или какое-то свойство субстанции, но есть система отношений. Оно существует соотносительно (интенционально), как система отношений внутри бытия.
Так ли это? Можем ли мы на самом деле разделить “Я” и сознание? Сознание — это, в сущности, все то, что “я знаю”. Но я знаю, также, что существую “Я” — тот, который знает. Я знаю существование собственного “Я”. Следовательно, “Я” — есть одно из содержаний моего сознания. (То, что не является содержанием сознания, я знать, очевидно, не могу). Но никакого особого выделенного содержания, соответствующего моему “Я”, найти в сознании не удается. Я вижу стену, но не вижу “Я”, которое смотрит на эту стену (как писал Д. Юм). Данность стены моему “Я” означает просто существование этой стены во мне — как одного из содержаний моего сознания. Никакого “Я” как отдельной сущности к этой стене не примысливается. Поэтому утверждение “Я вижу стену” может означать лишь: “я и есть стена” (в данный момент времени) или, точнее говоря, означать, что “стена есть часть моего “Я””.
Таким образом, как мы уже отмечали во второй главе, данность мне некоторого объекта означает на самом деле тождество “Я” и этого объекта — объект обнаруживает себя как часть моего “Я”.
Никакого трансцендентного сознанию “Я”, мыслимого, например, как некий “чистый субъект” или “чистый взор” — который все воспринимает, но сам не воспринимаем, нет и быть не может. О таком “трансцендентном Я” мы ничего не могли бы знать, не могли бы даже содержательно о нем помыслить, поскольку такое “Я” находилось бы за пределами всякого возможного опыта. Следовательно, “Я” — это и есть мое сознание, моя сфера субъективного, есть все то, что я воспринимаю, воображаю, о чем я мыслю, мечтаю, то, к чему я стремлюсь и т. д. — т. е. это есть сознание, взятое в полном объеме, как некое единство, как целостная единица. Это сознание, взятое в аспекте его целостности, единства и себетождественности.
Вместе с тем, как уже отмечалось нами ранее, не следует ограничивать мое “Я” текущим состоянием моего сознания. Во второй главе мы анализировали временную нелокальность сферы субъективного, исходя из данных интроспекции и соображений достоверности знания субъектом собственной себетождественности во времени. Но идею временной нелокальности сознания можно обосновать гораздо проще и убедительнее, если исходить из идеи имманентности всякого опыта моему “Я”. Действительно, поскольку за пределами моего сознания ничего нет, то нет ничего и за пределами моего “Я” (“Я” вбирает в себя весь мир — как потенциальный предмет знания). Все имманентно моему “Я” — в том числе мое прошлое и мое возможное будущее. Можно было бы подумать, что прошлое и будущее существуют за пределами моего “Я” (“уже не я” и “еще не я”) и что только в настоящем достигается имманентность “Я” и переживаемых содержаний сознания. Но за пределами “Я” ничего нет — и, следовательно, нет ничего, что могло бы “извне” входить в мое сознание. Следовательно, прошлое и будущее каким-то образом изначально должны содержаться в составе моего “Я” и, следовательно, должны “неявно” входить в состав “переживаемого мною”. Действительно, я способен помыслить о своем прошлом и будущем. Но моя мысль имеет то самое содержание, которое в ней подразумевается, лишь в том случае, если прошлое и будущее непосредственно даны мне в опыте именно в качестве прошлого и будущего (а не как представления о прошлом и будущем локализованные в настоящем). Таким образом, прошлое и будущее имманентны моему “Я”, поскольку “Я” — это и есть любой мой возможный опыт (в его совокупности).
Вообще всякая множественность, как уже отмечалось ранее, в том числе и множественность моментов времени, возможна лишь на фоне преодолевающего эту множественность единства — иначе сама эта множественность была бы немыслима. Следовательно, и множественность проживаемых моментов времени должна преодолеваться сверхвременным (времяобъемлющим) единством сознания. Иными словами мое “Я” лишь отчасти пребывает в настоящем времени, но существенной своей частью пребывает вне течения времени, вне деления времени на настоящее, прошлое и будущее. Т. е. оно пребывает “в Вечности” — в особом времяобъемлющем модусе бытия. (“Я” “всевременно” — как писал Л.П. Карсавин [85]).
Обычно думают, что прошлое существует в единственном экземпляре, тогда как будущее — как некая (потенциально бесконечная) система альтернатив. Но когда-то мое прошлое тоже было одним из возможных вариантов будущего. Следовательно, все эти “не использованные” варианты должны также в какой-то форме существовать во мне. Ведь если “Я” — это ВСЁ, то не только в меня ничто не может войти “извне”, ни и “выйти” из меня — тоже ничего не может. Следовательно, наряду с возможными вариантами моего будущего в состав моего “Я” должны входить также и все возможные варианты моего прошлого.
Если мой жизненный путь не предопределен однозначным образом (т. е. если я обладаю свободой выбора), то это означает, что в составе моего “Я” содержится неограниченный ничем континуум возможных (виртуальных) жизненных путей, составляющих в совокупности “Универсум возможного”. Этот Универсум содержит в себе изначально в некой “потенциальной” форме все то, что я в принципе способен воспринять, представить, помыслить, пережить эмоционально, пожелать и т. д. Поскольку “вне меня ничего нет”, то этот Универсум содержит в себе абсолютно полный набор потенций бытия — никаких бытийных возможностей за пределами данного Универсума нет и быть не может. Вместе с тем, этот Универсум — есть Универсум возможного опыта (поскольку существовать — значит существовать в качестве актуального или возможного опыта). Все это означает, что источник любого моего опыта лежит в пределах моего “Я”. Мое “Я”, таким образом, подобно лейбницевской монаде — любой свой возможный опыт оно уже содержит в себе в неком “свернутом” или “неявном” виде.
Предлагаемая модель сознания, в которой индивидуальное “Я” содержит в себе все существующее (хотя бы потенциально) может вызвать целый ряд возражений.
Во-первых, нас могут обвинить в “субъективном идеализме”, в отрицании “объективной реальности”.
Во-вторых, данная концепция, как представляется на первый взгляд, ведет к солипсизму, т. е. к отрицанию существования “других Я”.
В-третьих, если данная точка зрения верна и мое “Я” имманентно всему сущему, то, возникает вопрос, откуда же возникает представление о некой “объективной реальности”, существующей вне и независимо от меня, откуда проистекает естественное для нас членение мира на “субъект” и “объект”? Как следует расценивать смысл научных теорий, которые, так или иначе, предполагают субъект-объектные отношения, — если объект и субъект на самом деле тождественны друг другу? Как, в частности, следует оценивать факты, указывающие на опосредованный характер нашего чувственного восприятия?
Вопрос о “солипсизме” мы рассмотрим в параграфе 4.3, а пока займемся двумя другими возражениями.
Несостоятельность обвинений в “субъективизме” или “субъективном идеализме” следует из того простого обстоятельства, что субъективное и объективное — есть соотносительные понятия: одно не может существовать без другого. Если нет объективного (внеположного “Я” бытия), то и субъективное утрачивает статус субъективного — как чего-то приватного, внутреннего. Поэтому мы можем с равным правом утверждать: “весь мир есть лишь мое сознание”, и, также: “мое сознание — это и есть реальный, объективный мир (объективная реальность)”. Вместе с тем неверно было бы думать, что, постулируя имманентность всякого бытия моему “Я”, я тем самым полностью устраняю всякую разницу между “Я” и “не-Я”, между “внешним” и “внутренним”, между объектом и субъектом.
Фундаментальная имманентность ВСЕГО моему “Я” отнюдь не исключает относительную трансцендентность тех или иных предметов (элементов опыта), по отношению к этому самому “Я”. Более того, такого рода трансцендентность необходимо иметь в виду, если мы хотим иметь достаточно реалистическую теорию познания, а также хотим сохранить обычное понимание науки как способа “проникновения” в “объективную реальность”, как способа действительного постижения этой реальности.
Заметим, что полное устранение субъект-объектных отношений, отрицание всякого “удвоения реальности” в нашем сознании (двойственности “образа и объекта”, “мысли и мыслимого предмета” и т.п.) ведет к колоссальным трудностям в теории познания. Начнем с того, что все наши физиологические и психологические теории восприятия строятся на основе представлений об опосредованном характере чувственного познания. Например, теория зрения исходит из того, что зрительное восприятие есть не что иное, как сложный процесс “восстановления” образа предмета по известным результатам сканирования нашей зрительной системой светового потока, рассеянного некоторой мишенью (предметом восприятия). Мы воспринимаем не “саму вещь”, а свет, отраженный от данной вещи, и даже не свет, а те “нервные импульсы”, которые сетчатка глаза передает в мозг по зрительному нерву. Образ возникает через некоторое время после зрительной стимуляции — возникает именно как некое “изображение” в моем сознании, причем изображение, не тождественное самому предмету. Таким образом, я вижу не вещь, а образ вещи, который существует в моем сознании.
Феномен зрительных иллюзий, факты, свидетельствующие о различиях в восприятии одних и тех же предметов разными людьми, существование артифицированных ощущений, вызванных электрической стимуляцией мозга и нервов — все эти и подобные им эмпирические данные говорят о том, что восприятие не только является опосредованным, но оно также и не является “копированием” предметов, существующих вне сознания. Следовательно, то, что я вижу предмет окрашенным, имеющим определенную геометрическую форму, положение в пространстве, определенное состояние движения — не означает, что вне меня существует окрашенный предмет такой же формы, с таким же положением в пространстве и состоянием движения. Наука убеждает нас в том, что нужно отказаться от “наивного реализма”, который, с одной стороны, разделяет образ и объект, а с другой стороны, усматривает некое “чувственное сходство” образа и объекта (подобного сходству предмета и его фотографии).
Это сходство отвергается с позиций научной картины мира, которая рисует нам мир лишенный всяких “вторичных” качеств: цвета, запаха, звука и т.п. и, таким образом, сводит все качественные различия к количественным. Это сходство неприемлемо и с позиций нейрофизиологии — которая показывает, что никаких “копий” окружающих нас предметов наш мозг не создает и создавать не может. Таким образом, нужно признать, что чувственно воспринимаемые предметы — в том виде, в каком мы их непосредственно переживаем, — есть лишь явления нашего “внутреннего мира”, т. е. есть нечто субъективное, приватное и что они имеют лишь косвенное отношение к тому, что мы обычно называем “объективной реальностью” или “самими вещами”.
Точно так же теория познания учит нас различать сами вещи и мысли о вещах. Если бы вещь и мысль всегда непосредственно совпадали, то невозможно было бы такое явление как заблуждение, т.к. было бы невозможно какое-либо рассогласование между мыслимым и реально существующим.
Полное устранение различий между объективным и субъективным делает таинственными и необъяснимыми самые заурядные явления, с которыми мы сталкиваемся каждый день и которые элементарно объяснимы в рамках классической субъект-объектной онтологии. Если мы отрицаем различие образа и объекта, то мы должны признать, что мы видим “сами вещи” и что вещи именно таковы, какими мы их непосредственно видим. Но в таком случае, если я надеваю розовые очки и вижу все вокруг себя розовым, — то это должно означать, что сами предметы действительно стали розовыми, т. е. что очки каким-то образом “окрашивают” предметы. Но почему тогда только я вижу предметы розовыми, а другие люди — нет? Как объяснить, исходя из теории “прямого видения” вещей, например, каким образом очки способны корректировать зрение?
Все это говорит о том, что отказаться от обычных “научных” представлений о восприятии, как о сложном процессе “отражения” предмета в сознании человека, не представляется возможным. Никакой разумной альтернативы этой точке зрения не существует. Мы не можем, не жертвуя наукой, в частности, физиологией восприятия и физикой, отказаться от разделения “субъективного” и “объективного”, вещи и образа, мысли и мыслимого предмета.
Но с другой стороны, достаточно очевидно, что теория, согласно которой всякое познание является опосредованным, внутренне противоречива. Ведь эта теория претендует на знание о существовании “самих вещей”, отображаемых в нашем сознании, а также претендует на знание самого процесса отображения. И то и другое, однако, с точки зрения самой этой теории не возможно — ведь всякое знание здесь трактуется как нечто субъективное, существующее лишь в сознании, тогда как прямой доступ к “самим вещам” (трансцендентным предметам) для нас закрыт.
Уже сам факт возможности существования теории опосредованного восприятия позволяет утверждать, что “трансцендентный предмет” не является чем-то абсолютно запредельным для нашего мышления, что он все же некоторым образом имманентен познающему субъекту.
Как мы уже отмечали, имманентность познаваемого объекта познающему “Я” не исключает относительной трансцендентности. Но нужно помнить, что всякое понятие о трансцендентном осмысленно только в том случае, если трансцендентность преодолевается имманентностью, т. е. эта трансцендентность должна мыслиться именно как относительная, а не абсолютная внеположность объекта субъекту. Предмет в абсолютном смысле трансцендентный субъекту — вещь немыслимая. Сама идея о таком предмете невозможна, есть противоречие в понятиях, подобное “круглому квадрату”, “горячему мороженому”, “холодному зною” и т.п. Ведь если предмет помыслен, хотя бы и в качестве “трансцендентного”, — то он уже тем самым оказывается имманентным моей мысли. Поскольку моя мысль “указывает” на данный предмет, то он должен каким-то образом входить в состав моего опыта, должен быть каким-то способом “дан” мне.
Мысль о трансцендентном предмете есть противоречивая мысль, которая указывает как бы за пределы всего мыслимого. Как мысль — она имманентна моему сознанию, но вместе с тем, содержательно она указывает “за пределы себя”, как бы отрицая свою принадлежность к моему внутреннему миру, к миру мыслей. Она как бы говорит сама о себе: “я не мысль”. Эта мысль есть, таким образом, нечто “имманентно-трансцендентное”: и имманентное и трансцендентное в одно и то же время.
Мы можем непротиворечиво совместить имманентность и трансцендентность, если примем во внимание многослойную, многоуровневую структуру сознания. Объект, в частности, может быть дан в форме чувственности (как чувственный образ) и форме мышления (как идея). Чувственно нам в каждый момент времени дан лишь какой-то фрагмент, малая часть Универсума — дано лишь то, что мы воспринимаем “здесь” и “сейчас”. Чувственное восприятие, как мы видели, следует квалифицировать как опосредованную форму познания — мы имеем дело здесь не с “самими вещами”, а с их “субъективными репрезентациями”.
Напротив, наше мышление свободно выходит за пределы чувственно воспринимаемого, за пределы “настоящего момента”. Мы можем свободно мыслить о любом событии прошлого или будущего. Мы можем помыслить как любую локальную часть Универсума, так и весь Универсум в целом. И, в отличие от чувственного восприятия, у нас нет оснований считать, что предмет мышления дан нам в акте мысленного его постижения лишь опосредованно. В самом деле, поскольку мы способны познавать вещи, то мы должны, так или иначе, иметь прямой доступ к этим вещам. Если такой доступ отсутствует не только на уровне восприятия, но и на уровне мышления, то это означает, что мы замкнуты в своей собственной субъективности и абсолютно отчуждены от бытия всего сущего, от “вещей в себе”.
Следовательно, уже из этих соображений мы должны допустить, что мышление дает нам прямой доступ к реальности, позволяет иметь дело с “самими вещами”, данными нам “в подлиннике”, а не через посредство каких-либо репрезентаций. То есть мы приходим к выводу, что акт мышления — есть акт прямого самообнаружения мыслимой вещи в нашем сознании. В таком случае мы должны признать справедливость парменидовского принципа “тождества бытия и мышления”: “одно и то же мысль и то, о чем она существует”. Таким образом, мышление в своей основе объективно, надындивидуально, — оно выводит познающее “Я” за рамки его приватной субъективности.
Разомкнутость индивидуального сознания именно на уровне мышления – есть требование, по сути вытекающее из анализа самой природы мышления. Цель мышления – получение истины. Если мы что-либо каким-либо образом аргументируем, то мы тем самым уже принимаем тезис об объективном, надындивидуальном статусе нашей мысли. В противном случае — если мышление чисто субъективно, есть лишь нечто “происходящее у меня в голове”, то оно не имеет никакой силы “вне моей головы” — ничего не может ни доказать, ни опровергнуть. Более того, оно не имеет силы даже и в отношении самого мыслящего субъекта. Если я “хозяин собственной мысли” – именно от меня зависит: что есть истина, а что есть ложь. Не я подчинен истине, но истина подчинена мне. Но тогда я не могу что-либо доказательно аргументировать, даже адресуясь к самому себе. Мышление, в таком случае, вообще невозможно: абсурдно прибегать к какой-либо аргументации, если заранее известно, что она не имеет никакой силы утвердить объективную (общезначимую) или хотя бы значимую (обязательную) для самого мыслящего субъекта истину. Но в таком случае и сама концепция “субъективности мышления” — не может быть рационально обоснована – любая такая концепция неизбежно будет опровергать саму себя. (Об этом знал еще блаж. Августин: Истина — говорил он — не может не существовать, поскольку отрицая Истину, мы тем самым утверждаем истинность отсутствия Истины – т.е. впадаем в противоречие).
Но если мышление есть прямой доступ к бытию, к объективной реальности, то неизбежно возникает вопрос: как же тогда возможны ошибки мышления, возможна неадекватность нашей мысли реальности, как возможны, в частности, ошибочные научные теории? Видимо нужно, также, допустить и некоторую относительную трансцендентность самой мысли по отношению к ее предмету. Это, в свою очередь, предполагает многоуровневое строение мышления.
Начнем с того, что всякое знание, как чувственное, так и интеллектуальное, может иметь две формы: рефлексивную (сознательную) и внерефлексивную (бессознательную). Рефлексивность предполагает возможность дать отчет о том или ином содержании нашего внутреннего мира. Однако значительная часть чувственных и внечувственных содержаний нашей психики в каждый момент времени лежат вне рефлексивного доступа, не осознаются.
Поскольку рефлексивно мне даны (в дифференцированной форме) в каждый момент времени лишь некоторые фрагменты Универсума, то, очевидно, мое “Я” может совпадать со всем Универсумом как целом лишь на дорефлексивном уровне. (Хотя я могу иметь рефлексивную идею “недифференцированного” Универсума — как некой нерасчлененной, “непрозрачной” для меня целостности). Следовательно, только на дорефлексивном уровне допустимо полное отождествление бытия и мышления.
С этой точки зрения некоторое рассогласование бытия и мышления возможно вследствие того, что мы под содержанием мысли понимаем обычно лишь отрефлексированное содержание, которое, однако, представляет собой лишь некоторую выделенную часть умопостигаемого Универсума. Но всякая часть обладает полнотой своего существования, полнотой смысла лишь в составе целого. Следовательно, “расщепление” целого Универсума в акте рефлексии ведет к утрате некоторого содержания рефлексируемой его части. Отрефлексированное мыслимое содержание уже не обладает той полнотой бытия, которое присуще дорефлексивному содержанию. Таким образом, ошибки в мышлении возможны в виде неполноты, фрагментарности отображения бытия в рефлексивной мысли субъекта. (Хотя то, что отображается — есть содержание самого Универсума).
Однако не следует думать, что рефлексия творит какое-то новое бытие, ведет к некоторому “удвоению реальности”. Рефлексия, как мы уже отмечали, лишь переводит в новую систему функциональных отношений то бытие, которое существовало до акта рефлексии, переводит это бытие в определенное отношение к деятельности субъекта, делая тем самым его доступным для самоотчета. В противном случае, если бы акт рефлексии как-то существенно видоизменял рефлексируемое содержание, то дорефлексивный план бытия был бы абсолютно нам недоступен. Он “заслонялся” бы трансформированными образами этого бытия и цель рефлексии — проникнуть в бессознательное, выявить его подлинное содержание, — была бы принципиально недостижима.
Рефлексия, таким образом, просто переводит в иное функциональное качество то самое бытие, которое до этого пребывало в сфере бессознательного. Искажения здесь возникают лишь в силу того, что наша способность к рефлексии ограничена, и мы рефлексивно отображаем лишь отдельные фрагменты того, что само по себе существует как нечто целое, неразложимое на составные части.
Однако расхождения бытия и мышления не ограничиваются только лишь неполнотой представленности бытия в рефлексивном мышлении. Вполне возможна и обратная ситуация — когда в мышлении присутствует нечто такое, что отсутствует или даже не возможно в составе реально существующего. Благодаря фантазии мы способны помыслить вещи и ситуации, которые отсутствуют в “реальном”, чувственно воспринимаемом мире. Когда Парменид провозгласил свой принцип “тождества бытия и мышления”, софист Горгий возразил ему: как это возможно, если мы способны помыслить то, чего нет на самом деле. Например, помыслить “колесницы, соревнующиеся на море”.
Рассогласование бытия и мышления можно в этом случае устранить, истолковав понятие “бытие” расширительно — включив в состав “реально существующего” наряду с действительным (актуальным) бытием, также и бытие возможное (потенциальное).
Напомним, что поскольку всякое бытие мыслимо лишь как существующее в пределах моего “Я”, то возможное и действительное бытие — это не что иное, как мои собственные возможные и действительные переживания: все то, что я действительно воспринимаю, мыслю, чувствую и т. д., а также все то, что я вообще могу воспринять, помыслить, почувствовать и т. д. “Потенциальное” в составе бытия — это то “место” где пребывают состояния моего сознания до того, как они станут актуально переживаемыми. Ясно, что это “место” также должно находиться в составе моего “Я” (поскольку вне “Я” ничего нет).
Таким образом “потенциальное бытие” — это “непроявленное”, неактуализированное, но, вместе с тем, вполне реально существующее содержание моего “Я”. (Как мы показали в первой главе, потенциальное содержимое “Я” непосредственно дано мне в качестве смысла и, следовательно, оно реально присутствует в каждом состоянии моего сознания — как постоянный и универсальный “смысловой фон”, делающий осмысленными мои актуально переживаемые чувственные образы, ощущения и представления).
Опыт показывает нам, что благодаря функционированию воображения, возможные содержания моего сознания далеко не исчерпываются лишь тем, что встречается в составе чувственного опыта. Наше воображение способно вывести нас за рамки реального мира, позволяя тем самым мыслить этот мир в системе альтернатив. Таким образом, мы должны признать, что Универсум рассуждений (все, что возможно помыслить, представить) содержит в себе “множество всех возможных миров” — из которых лишь один мир совпадает с тем, что мы называем “реальным” (чувственно воспринимаемым) миром.
Эта способность мыслить несуществующее, мыслить мир в системе “несуществующих” альтернатив — чрезвычайно важна и, по существу, именно она составляет специфику человеческого сознания. Именно она обеспечивает возможность понятийного мышления (понятия есть надэмпирические обобщения — поскольку они имеют в виду не только реально существующие, но и вообще все возможные предметы данного класса), возможность самосознания (что предполагает возможность дистанцироваться от самого себя, как конкретного, ограниченного существа), составляет основу оценочной деятельности человека. Видение альтернатив делает наше мышление относительно независимым от мира природы, позволяет нашему “Я” дистанцироваться от чисто природного бытия — именно это и отличает человека от животных. Видя мир через призму альтернатив, мы ощущаем себя свободными от той однозначности, заданности, которую природный мир нам навязывает. Мы, также, обретаем способность к творчеству (творчество — это и есть “проецирование” мира возможного в природную реальность), можем создавать идеалы, судить о должном и недолжном.
Вместе с тем, именно благодаря воображению мы можем создавать ошибочные теории, давать ложные объяснения реального мира, заблуждаться по поводу устройства реального мира. Ведь воспринимая мир в системе альтернатив, мы не можем заранее знать, какой именно из “возможных миров” — есть та самая чувственно постижимая Вселенная, в которой мы себя эмпирически обнаруживаем.
Рассмотренные до сих пор формы заблуждения, как мы видим, по существу не выводят нас за пределы бытия (если бытие рассматривать как единство возможного и действительного). Но мы способны “помыслить” не только то, что “не существует в действительности” (но обладает потенциальным бытием), но также и то, что вообще не возможно, т. е. не существует даже в качестве “возможного опыта”, в потенции. Мы можем, например, “помыслить” “круглый квадрат”, “нецветную красноту” и т.п. Здесь мышление как бы полностью выводит нас за пределы бытия. Как это возможно?
Здесь мы должны вернуться к анализу феномена рефлексии. Рефлексия есть отчет о содержании собственного сознания. Отчет есть речевой акт и, следовательно, рефлексия предполагает использование языка, а значит и понятийного аппарата. Понятия, как учит нас логика, фиксируют лишь отличительные признаки мыслимых предметов, но они не содержат в себе полной информации об этих предметах, т. е. понятия не есть “идеи” данных предметов. Понятия лишь указывают на соответствующие идеи. Это указание осуществляется путем задания набора признаков предмета мысли. Но этот набор может быть таким, что заданное сочетание признаков в принципе не может быть реализовано в опыте. Иными словами, невозможно представление, или образ, или идея, в которых сочетались бы заявленные признаки.
Поскольку бытие целиком исчерпывается тем, что может быть дано в опыте в виде образов, представлений или идей, то выход за пределы опыта — есть, вместе с тем, выход за пределы бытия.
Таким образом, в рамках понятийного мышления, как мы уже отмечали ранее, мы можем, механически манипулируя признаками, конструировать понятия о невозможных, не существующих предметах, т. е. способны осуществлять указание за пределы всякого возможного бытия.
По сути, это не означает, что мышление реально выводит нас за пределы бытия (опыта) — ведь мы не можем содержательно помыслить невозможные объекты. Невозможно представить или помыслить круглый квадрат, мы не можем образовать содержательную идею такого предмета. Мы как бы лишь “замысливаем” идею такого объекта, но не способны реализовать этот замысел в мышлении. Бытием в данном случае обладает лишь замысел идеи “круглого квадрата”, но не сама эта идея.
Мы видим, что благодаря понятийному мышлению наша мысль обретает способность как бы иллюзорно выходить за пределы возможного опыта, нарушая при этом логический принцип непротиворечивости и, следовательно, делая невозможным логически корректное мышление о той “псевдореальности”, которая мыслится за пределами возможного опыта.
Закон непротиворечивости, как показал в свое время А.И. Введенский [29], по существу и является требованием мыслить лишь в пределах возможного опыта. Эта сфера “за пределами возможного опыта” — есть псевдореальность, образованная посредством псевдоидей. К таким псевдоидеям относится и сама “идея” трансцендентного, т. е. идея реальности, целиком находящейся за пределами всякого возможного опыта. От такого рода “псевдоидей” необходимо избавляться, поскольку они реально ничего не обозначают, не указывают ни на какое реальное бытие.
Другое разграничение, которое мы можем осуществить внутри мышления, уже не связано с вопросом об истинности. Это уже отмеченное нами ранее разделение в мышлении динамической и статической составляющих. С одной стороны, мышление можно представить как некий процесс, например, как процесс решения задач или как процесс логического вывода. Здесь мышление как бы “двигается”, “перемещается” от одного предмета мысли к другому. В этом случае мышление есть нечто меняющееся во времени, поскольку предполагается, что мы можем мыслить то один предмет, то другой. С другой стороны, всякий акт мышления предполагает статическую составляющую — то, что мы называем пониманием или уразумением. Понять — это значит уловить смысл. Смысл же каждой вещи определяется через соотнесение ее с другими вещами, с интегральной “картиной мира”, которая как фон всегда неявно присутствует в нашем сознании. Смысл любой вещи — есть совокупность ее отношений (актуальных и потенциальных) со всеми действительными и возможными вещами, т. е., в конечном итоге, смысл раскрывается через соотнесение вещи с Универсумом (Абсолютом).
Уловить смысл вещи — это значит определить ее место в Универсуме. Поэтому именно в феномене смысла более всего и раскрывается непосредственное присутствие Универсума в индивидуальном сознании.
Динамическое мышление (дискурс, дианойя) основано на уразумении (схватывании смысла, ноэзисе). Чтобы решить задачу — необходимо понять ее условия, т. е. осмыслить связь элементов задачи друг с другом и с элементами внеположной реальности. Но эта внеположная реальность тоже должна иметь смысл и, следовательно, должна соотносится с какой-то другой реальностью. Помыслив явным образом что-то одно, мы, при этом, должны неявным образом помыслить и все остальное — по сути, весь Универсум, ведь лишь в отношении к нему и существует полный смысл помысленной вещи.
Здесь мы опять сталкиваемся с “двухслойностью” мышления: есть “актуальный”, “явный”, “динамический” слой мышления и есть “смысловой фон” — который и делает осмысленным актуальное содержание мышления.
Содержание мышления можно, также, разделить на то содержание, которое есть в конечном итоге продукт чувственного опыта и, следовательно, дает нам представление о действительном, чувственно воспринимаемом мире, и содержание, которое есть продукт воображения, фантазии, индивидуального творчества. И то и другое — играют важную роль в нашем мышлении. Первая составляющая обеспечивает функцию адаптации к окружающему миру, а вторая — обеспечивает способность человека преобразовывать реальный мир в соответствии с его представлениями, идеалами, фантазиями.
Можно также выделить содержание сознания, которое фиксировано в памяти (как нечто реально бывшее, имевшее место) и то содержание, которое только возможно (могло бы быть пережито), но реально никогда в актуальном опыте не присутствовало — даже в качестве воображаемого (это то, что можно назвать “возможным опытом”). Возможный (еще не реализованный) опыт, как мы уже отмечали, также должен быть помещен в состав моего сознания (“Я”), поскольку вне сознания (“Я”) ничего не существует.
Таким образом, анализируя устройство нашего опыта, мы можем констатировать его сложную, многослойную структуру. Существует некий, как бы “внутренний”, имманентный в более сильном смысле слой нашего опыта и есть как бы “внешний”, относительно трансцендентный его слой.
К “внутреннему” слою можно отнести:
1. То, что я чувственно переживаю в данный момент времени: все мои чувственные образы, ощущения, представления.
2. Содержание моей индивидуальной памяти — это та часть опыта, которую я отношу к реально пережитому в моем прошлом.
3. То, что я актуально мыслю — содержание моего мышления в данный момент времени, а также все то, о чем я актуально мыслил в прошлом.
4. Мои реально пережитые настоящие и прошлые волевые акты и эмоциональные состояния.
В совокупности все это образует то, что можно назвать “эмпирической личностью” или “эмпирическим Я”. Именно это “эмпирическое Я” и является непосредственным предметом рефлексии.
Этот “внутренний” слой, вместе с тем, не исчерпывает всего содержания моего сознания. Существует, как мы видели, также и “внешний” слой — это все возможное, (но еще никогда ранее не актуализированное, нигде не развернутое явно) потенциальное (смысловое) содержание моего сознания, т.е. это весь мыслимый возможный опыт, любые возможные мои переживания — за исключением тех переживаний, которые мы отнесли к “внутреннему” слою опыта и которые составляют в совокупности мой актуальный индивидуальный личный опыт — опыт конкретного эмпирического “Я”. Но я могу, в принципе, помыслить все, что угодно. В частности, свое прошлое, настоящее и будущее я могу, в принципе, помыслить в системе альтернатив. Следовательно, возможный опыт должен содержать в себе не только все возможные варианты моего будущего, но также и все возможные варианты моего прошлого и настоящего (это то, что я никогда реально не переживал и даже реально не смогу пережить в будущем — в силу моей эмпирической конечности и ограниченности).
Совместно “внешний” и “внутренний” слои опыта образуют “Универсум возможного опыта” или, что то же самое, — Абсолют. Абсолют, как мы установили, имманентен моему “Я” и то, в моем “Я”, что непосредственно совпадает с Абсолютом, естественно было бы назвать “Абсолютным Я” (или “Абсолютной личностью”). Абсолютное “Я” есть преимущественно нерефлексивное (дорефлексивное) содержание моего сознания — его содержание не может быть представлено в актах рефлексии целиком в дифференцированной форме (но как нерасчлененное целое оно может быть отрефлексировано — иначе об Абсолютном “Я” невозможно было бы высказываться). Таким образом, Абсолютное “Я” можно в первом приближении определить как глубинный “бессознательный” слой моего “Я”, как ту досознательную, дорефлексивную основу, из которой “вырастает” мое эмпирическое “Я” и мое рефлексивное “Я” (последние два понятия не тождественны друг другу, поскольку эмпирическое “Я” лишь отчасти прозрачно для рефлексии).
Эмпирическое “Я” есть, в таком случае, результат некоторых, вполне определенных ограничений, налагаемых на Абсолютное “Я”. Но поскольку помимо Абсолютного “Я” ничего не существует, то эти ограничения, очевидно, могут проистекать только из самого Абсолютного “Я”. Следовательно, эмпирическое “Я” есть продукт самоограничения (самоучастнения) Абсолютного “Я”. Это самоограничение, однако, не приводит к разрыву части и целого — Абсолютное “Я” целиком и полностью присутствует в составе эмпирического “Я” (в виде “смыслового поля”) как его “глубинная основа”. Поэтому, будучи эмпирическим, конкретным, ограниченным существом, я, тем не менее, ощущая себя и существом безотносительным, неограниченным, ощущаю свою собственную абсолютность. Я чувствую, что не только я существую в мире, но и мир некоторым образом существует во мне.
“Внешний” слой Абсолютного “Я”, по отношению к его “внутреннему” слою (эмпирическому “Я”) — есть относительное “не-Я”, т. е. — это и есть та самая “объективная реальность”, о которой обычно говорят, что она существует “вне и независимо от моего сознания”. На самом деле она независима лишь от моего эмпирического “Я”, но не от Абсолютного “Я”.
“Не-Я”, в частности, — это природа и социальное окружение. “Не-Я” возникает в тот момент, когда рождается эмпирическое “Я” и, таким образом, природа и общество — есть коррелят моей эмпирической личности, т. е. есть как бы “обратная сторона” тех ограничений, которые и создали мое эмпирическое “Я”. Независимость “не-Я” (природы и общества) от эмпирического “Я” — есть следствие того, что эмпирическое “Я” не способно изменить те самые условия ограничения, которые и создали это эмпирическое “Я”. В самом деле, как эмпирическое “Я” может изменить, модернизировать тот акт, который и является основой его существования — как чего–то вполне определенного и конкретного? Моя воля, мои желания — есть воля и желания эмпирической личности, и они, конечно же, не могут отменить или изменить те условия, которые и сделали возможными саму эту волю и желания. Поэтому законы природы и характер социальной жизни — существуют для меня как нечто принудительно данное, объективное, независимое от моей воли и желаний.
Весьма сомнительно, что с помощью каких-либо индивидуальных усилий возможно было бы (как это утверждают, например, йоги) устранить различие эмпирического и Абсолютного “Я”, преодолеть границу “Я” и “не-Я” и, таким образом, внутренне соединиться с Абсолютом.
Мы уже писали ранее, что философы нередко совершают ошибку и отождествляют акт самоограничения Абсолюта с рождением самосознания. Полагают, что онтологическое различие “Я” и “не-Я”, различие, которое объективно присутствует в самом Абсолюте, появляется лишь в тот момент, когда я начинаю отличать себя от окружающего мира, когда я постигаю различие между мной и другими, моим телом и природным миром и т. д. Это совершенно не верно. Рефлексия, подчеркнем еще раз, не создает никакого нового бытия — она лишь ставит существующее дорефлексивное бытие в новое функциональное отношение. Различие Абсолютного и эмпирического “Я” существует, следовательно, и на дорефлексивном уровне.
Вместе с тем, сама возможность различения “Я” и “не-Я” — предполагает выход за пределы эмпирического “Я”. Ведь для того, чтобы увидеть различие “Я” и “не-Я”, нужно выйти за пределы той сферы бытия, в которой это различие существует, и встать на некую “надындивидуальную” точку зрения, которая позволит увидеть “Я” и “не-Я” в их взаимной связи и различии. Иными словами, акт самосознания, осознания себя неким отдельным от мира, ограниченным “эмпирическим Я”, предполагает выход за пределы этого ограниченного “Я” и восприятие той самой “запредельной” реальности — от которой мое “Я” отделено. Т. е. предполагает относительность различия “Я” и “не-Я” и, следовательно, совместную укорененность “Я” (эмпирического) и “окружающего мира” (“не-Я”) в неком всеобъемлющем Целом (Абсолютном бытии, Универсуме возможного), к которому я сохраняю непосредственный доступ даже в участненном, ограниченном, эмпирическом своем состоянии.
Заметим, что практика йогов направлена, как это следует из доступных нам источников, как раз на устранение самосознания, что и порождает чувство слияния с Абсолютом. С нашей точки зрения, это, видимо, иллюзорное чувство, поскольку реальная эмпирическая личность при этом не упраздняется, не устраняется та реальная граница, которая разделяет “Я” и “не-Я”. Реальное устранение этой границы привело бы, видимо, к изменению самой структуры реальности, изменило бы устройство Вселенной, даровало бы личности реальное всемогущество и всезнание. Хотя древняя литература по йоге утверждает возможность такого всемогущества и всеведения, но на практике достижения современных йогов выглядят гораздо скромнее и не идут, как правило, дальше способности управлять отдельными функциями собственного организма.
Это как раз и показывает, что разрушение чувства “отдельности от мира” еще не означает реального упразднения эмпирической личности и слияния ее с Абсолютом.
4.2. Проявления абсолютного “Я” в составе эмпирической личности: свобода и смысл
До сих пор мы пытались обосновать существование Абсолютного “Я”, содержащего в себе ВСЁ существующее (в качестве возможного опыта), лишь косвенно, исходя из немыслимости такой трансцендентности, которая не преодолевалась бы имманентностью. Этот аргумент является косвенным, поскольку мы в данном случае не апеллировали непосредственно к самому Абсолюту, как некой непосредственно (опытно) обнаруживаемой в нас реальности.
Ясно, что если бы Абсолют не обнаруживал себя в составе непосредственного опыта, то никакое достоверное знание о нем было бы не возможно. Только прямой опыт — в котором та или иная вещь обнаруживает себя прямо, без каких-либо посредников, без каких-либо выводов — только такой опыт может быть доказательным.
Если Абсолютное “Я” существует во мне, то, несмотря на ограниченность моей эмпирической личности, во мне должно реально, в каждый момент времени обнаруживаться некое неограниченное, бесконечное, всеобъемлющее начало и это начало должно существенным образом определять свойства самой эмпирической личности.
Два явления нашего внутреннего мира, с нашей точки зрения, можно истолковать как непосредственные проявления Абсолютного “Я” в составе эмпирической личности: это свобода и смысл. Поэтому мы должны теперь заново, с новой точки зрения (скорее содержательной, чем формальной) проанализировать эти феномены.
Свобода личности обычно мыслится как свобода воли, т. е. как возможность осуществлять действия в той или иной мере независимо от какой-либо внешней детерминации. Свободное действие — это действие, детерминированное непосредственно моим “Я”, а не обусловленное какими-либо внешними по отношению к “Я” причинами.
Абсолютное “Я”, поскольку вне его ничего не существует, — является в силу этого абсолютно свободным. Ведь нет ничего внешнего, что могло бы ограничить свободу Абсолюта, т. е. могло бы выступать в качестве внешней причины, обуславливающей действия Абсолютного “Я”. Но, с другой стороны, невозможно приписать Абсолютному “Я” и свободу воли. Ведь воля, т. е. способность целенаправленно действовать, — есть свойство эмпирического, а не Абсолютного “Я”. Вместе с тем, эмпирическое “Я” есть продукт ограничений, накладываемых на себя Абсолютом и, следовательно, есть нечто несвободное, зависимое от этих ограничений. Эмпирическое “Я” свободно лишь в той мере, в какой оно остается независимым от конституирующих ее ограничений, т. е., в той мере, в какой оно совпадает с “Я” Абсолютным.
Эти ограничения касаются, в первую очередь, чувственности. Наше чувственное восприятие очень мало зависит от нашей воли и желаний. Я не могу усилием воли устранить тот или иной объект из поля зрения или заставить себя видеть какой-то желаемый мною предмет. Чувственные впечатления даны мне с принудительной силой, они подчиняют мое сознание и существенным образом ограничивают мою свободу. Но мое эмпирическое “Я” остается свободным в сфере мышления и воображения. Я могу помыслить и вообразить все, что я захочу, могу представить себя в любой ситуации, в любом окружении, в любом состоянии. Причем, поскольку Абсолютное “Я” — это и есть совокупность всего того, что я вообще могу пережить (почувствовать, помыслить, вообразить), то, получается, что я обладаю в мышлении и воображении абсолютной свободой — в том смысле, что не существует ничего мне недоступного, что я не мог бы помыслить или вообразить.
Как уже отмечалось, все то, что я еще не воспринял, не помыслил, не вообразил (но могу воспринять, помыслить, вообразить) не следует считать чем-то абсолютно не существующим или находящимся за пределами моего “Я”. Поскольку ничего абсолютно трансцендентного по отношению к моему “Я” не существует, то всякое возможное мое переживание уже каким-то образом должно существовать во мне до того, как оно станет “актуально переживаемым”. Отсюда следует, что неверно рассматривать воображение как способность к рекомбинации полученных ранее чувственных впечатлений. Если бы наша фантазия сводилась к такой рекомбинации, то это означало бы, что существует нечто трансцендентное “Я” — а именно, то содержание, которое мы “еще не сконструировали” (но можем сконструировать) из элементов чувственного опыта. Кроме того, это существенным образом ограничивало бы наше воображение и делало бы невозможным создание чего-то действительно нового, небывалого, делало бы невозможным истинное творчество, которое, конечно, никак нельзя свести к механической рекомбинации элементов, почерпнутых из чувственного опыта (особенно это верно для художественного творчества).
Конечно, воображение как способность к рекомбинации — существует. Но это не имеет никакого отношения к подлинно творческому воображению и мышлению. Об этом, в частности, убедительно говорит сам факт существования мира человеческой культуры — как мира “надприродного”, невыводимого из чувственной, животной природы человека.
Невозможно представить, что вся человеческая культура — есть продукт механического соединения и разъединения по определенным правилам чувственных элементов, полученных через посредство восприятия. Подлинное творчество (художественное и научное) в той или иной мере выводит нас за рамки природного и чувственно воспринимаемого. В своей основе оно является развертыванием в нашем сознании глубинных структур нашего собственного “Я”.
Мы можем помыслить многомерные пространства, мнимые величины, бесконечность, Бога, мы творим музыку (которая не имеет аналогов в природе), мы имеем идеалы красоты, добра, истины и т. д. Все это не выводимо из чувственного опыта, даже противоречит ему и, следовательно, должно иметь опору не вовне, а внутри нашей личности.
Итак, я свободен в той мере, в какой мое мышление и воображение способны вывести меня за пределы природной детерминации, за пределы диктуемого чувственным опытом.
Моя свобода проявляется (если она вообще существует) в моих действиях — в моей способности к свободному выбору. Из сказанного выше следует, что мои выборы свободны в той мере, в какой в них участвует мое творческое мышление и воображение. Свобода выбора, вместе с тем, предполагает способность воспринимать мир в системе альтернатив: помимо того, что есть, я могу вообразить себе и то, чего нет (но могло бы быть). Это и позволяет нам дистанцироваться от наличной действительности и создавать представление о желаемом и должном, а затем, преобразовывать наличное в желаемое и должное. Сравнивая воображаемое с действительным, мы ставим вопрос: почему эта действительность такова, какой она нам является. Таким образом мы учимся понимать и объяснять причины явлений.
Конечно наша свобода, даже свобода мышления и воображения не абсолютна. Не так-то просто вообразить нечто действительно новое, небывалое, действительно оригинальное. Творческое воображение — это дар, которым в полной мере обладает далеко не каждый. Абсолютная свобода — есть, скорее, свойство, принадлежащее человеческому роду, а не отдельному индивиду. Всякое наше реальное действие полидетерминировано. Наши поступки зависят от нашей эмпирической личности — от ее индивидуального опыта, пристрастий, привычек и, следовательно, подпадают под те ограничения, которые определяют специфику конкретного эмпирического “Я”. Но эти поступки определяются отчасти и нашим участием в Абсолютном “Я”. В первом случае, даже те действия, которые определяются нашими желаниями, не свободны, — поскольку не свободны сами желания эмпирической личности. Во втором случае — личность вполне свободна. Она свободна даже сама от себя, от своей эмпирической конкретности. Способность дистанцироваться от самого себя — есть фундаментальное свойство человеческой личности. Именно это свойство — “быть чем-то большим, чем просто “я””, и порождает в нас способность к самосознанию.
Во мне одновременно живут и абсолютная и эмпирическая личности — и обе совместно определяют мое поведение. Детерминация Абсолютом проявляется в том, что никакие частные, конкретные факторы — ни в отдельности, ни в совокупности, — не дают исчерпывающего объяснения моего поведения. Мною, конечно, движут конкретные мотивы, но всегда сохраняется чувство, что я способен противиться действию любого мотива, могу поступить как-то иначе, вопреки любым конкретным внешним или внутренним детерминирующим факторам.
Итак, мы видим, что свобода — есть непосредственный коррелят абсолютности нашего “Я”. Абсолют и свобода — это два аспекта (статический и динамический) одной и той же глубинной сущности нашего “Я”. В акте свободного выбора динамически проявляется то, что уже до этого выбора изначально присутствует в составе Абсолютного бытия. В моих свободных действиях различные составляющие Абсолютного бытия проявляются последовательно, отдельно друг от друга. Но это не единственная возможная форма обнаружения Абсолюта в составе моей эмпирической психической жизни. Другая форма обнаружения Абсолюта — в которой Абсолют проявляет себя уже как целое, — это смысл.
Форму существования смысла в нашем сознании мы уже подробно проанализировали в первой главе. Мы выделили два фундаментальных свойства смысла: во-первых, смысл есть потенциальная форма бытия (потенциальная чувственность), он не обладает актуальной качественностью, пространственностью и временностью, во-вторых, осмысление может осуществляться лишь через посредство соотнесения предмета с некой целостной системой знаний о мире (то, что можно назвать “интегральной картиной мира”), в которой каждый элемент находится в живой, активной связи со всеми другими элементами знания. Последнее означает, что смысл не делится ни на какие “куски” или “фрагменты”. Он может существовать лишь как целостное “смысловое поле”, в котором каждый элемент определяется через соотнесение его со всеми другими элементами.
Схватывая смысл предмета, я, следовательно, соотношу (потенциально) этот предмет с некой целостной системой знаний, с интегральной картиной мира, которая существует в виде единого “смыслового поля”.
Потенциальный характер соотнесения осмысляемого предмета с “картиной мира” создает эффект “объемности” нашего сознания, позволяет знанию существовать в виде целостной системы отношений, а не в виде отдельных, дискретно сменяющих друг друга единиц (как это происходит в компьютере). Но только в такой целостной системе отношений знание и может реально существовать как нечто “живое” и осмысленное.
Итак, мы приходим к выводу, что сознание обладает особой “потенциальной” составляющей, которую можно определить как “смысловое поле”. Это базовый слой нашего сознания — в том смысле, что всякое иное (чувственное) содержание — есть результат актуализации потенций, изначально присутствующих в составе смыслового поля. Актуализация — есть обретение “чувственной формы” (пространственности, временности, качественности). Такой статус чувственности вполне очевиден в отношении представлений памяти и воображения — здесь образ рождается непосредственно “изнутри”, из моего “Я” — как продукт актуализации смыслового поля. Смысл — это и есть “внутреннее” моего “Я”. Но и сенсорные образы, хотя и рождаются в результате воздействия “извне”, также, в конечном итоге, строятся “из ткани сознания” и также могут рассматриваться в качестве “актуализированных смыслов”. Здесь мы должны снова вспомнить, что ничего абсолютно запредельного “Я” не существует. Существуют лишь относительные степени “отчуждения” того или иного содержания Абсолютного “Я” от “Я” эмпирического. Следовательно, и чувственность в конечном итоге рождается из “глубин” нашего “Я”.
До сих пор мы рассматривали смысловое поле как некую онтологическую форму, в которой существует наше совокупное знание об окружающем нас мире и о самом себе, т. е. это то, что мы называем “картина мира”. Эта “картина мира” — есть, однако, лишь малая часть Абсолютного “Я”, которое содержит в себе абсолютно все возможные переживания и, следовательно, помимо картины “реального мира”, содержит в себе также и множество всех возможных (мыслимых) “картин мира”. Поскольку, однако, за каждой из этих “картин мира” не стоит никакой “трансцендентной реальности”, то слово “картина мира” можно заменить словом “мир” и, т.о., определить Абсолютное “Я” как “совокупность всех возможных миров”. Все эти “возможные миры” следует рассматривать как особые “виртуальные” компоненты единого “смыслового поля”.
Действительно, именно через отношение к Абсолютному “Я” определяется полный смысл любого предмета. Ведь смысл предмета — это его “место” в системе мироздания, т. е. его интегральное отношение ко всем возможным и действительным предметам, в пределе — ко всему, что вообще можно помыслить. Такой “предельный” смысл уже не зависит от конкретного личностного опыта и, следовательно, является “объективным” смыслом. Т. е. это смысл присущий самой вещи. Субъективный же смысл — не может быть ничем иным, как некой “выборкой” из этого “объективного” смысла, т. е. является более или менее полным отображением “объективного” смысла в сознании эмпирического субъекта.
Смысловое поле, как “совокупность всех возможных миров”, как Умопостигаемый Универсум, — есть базовая структура, на основе которой формируется эмпирическая личность. Однако, поскольку Абсолютное “Я” никуда не может “спрятаться” от себя — оно должно также в полном объеме присутствовать как некий постоянный “фон” в каждом текущем состоянии сознания. Иными словами, сквозь эмпирическое “Я” должно “просвечивать” “Я” Абсолютное, через конкретную, интегральную “картину мира” — должна просматриваться полная совокупность “возможных миров” (континуум возможных переживаний).
Эмпирически это проявляется в том, что наше понимание окружающего нас мира никогда не детерминируется целиком и полностью нашим прошлым опытом, совокупностью конкретных знаний о мире. В любом акте осмысления имманентно присутствует элемент воображения, какой-то, хотя бы минимальный, “отход от реальности”. Я осмысляю предмет не только в модусе того, “что он конкретно собой представляет”, но и в модусе “чем бы он мог являться”, в каких отношениях он мог бы находиться, помимо тех отношений, которые нам известны из опыта.
Именно этот элемент “гипотетичности” и позволяет нам воспринимать осмысленно даже те объекты, о которых мы ничего не знаем из опыта. Эти объекты все равно имеют для нас какой-то смысл — который возникает здесь за счет соотнесения их с различными “возможными” (гипотетическими) контекстами. Мы можем всегда предположить, чем является данная вещь, в каких возможных отношениях с другими вещами она может находиться, как ее можно использовать и т. д.
Если в поведении индивида Абсолют проявляется как свобода, то в сфере когнитивной аналог свободы — это способность все ставить под сомнение, не принимать никакое знание в качестве окончательной и непреложной истины. Я способен усомниться абсолютно во всем, даже в собственном существовании. В этом проявляется моя свобода, моя независимость от любой эмпирической заданности. Таким образом, наша неспособность достигнуть абсолютной истины — есть прямое свидетельство присутствия в нас Абсолютного начала, свидетельство нашей неограниченности, незаданности, недетерминированности каким-либо конечным содержанием.
Если во мне изначально содержится Абсолют (ВСЁ, Умопостигаемый Универсум, “совокупность всех возможных миров”), то это означает, что формирование моей эмпирической личности осуществляется не только путем постепенного расширения и обогащения ее содержания, а, напротив, осуществляется по большей части путем последовательного наложения ограничений на исходное “смысловое поле” — совпадающее содержательно с Абсолютом. Непосредственно Абсолют проявляет себя в воображении, фантазии, самосознании, способности видеть мир в системе альтернатив. Развитие личности идет по пути ограничения фантазии, через четкое разграничение “реального” и “возможного”, “действительного” и “воображаемого”. Так фактически и происходит: мы знаем, что фантазия особенно развита у детей, а с возрастом способность к воображению, как правило, уменьшается. “Реализм” все более все более подчиняет себе фантазию, подавляет ее.
Напротив, деградация эмпирической личности (как следствие психической болезни, травмы) — как правило, ведет к потере селективности психики, потере чувства реальности, неспособности отличить реальное положение вещей от собственных фантазий. (Например, нарушение называния предметов в синдроме амнестической афазии, как показывают исследования, связано не с разрушением следов памяти, а с нарушением процесса селекции информации хранящейся в памяти [115]. Больной не может правильно назвать предмет не потому, что его название “выпало из памяти”, а потому, что одновременно с правильным названием в его сознании всплывает множество ошибочных названий и он не может выбрать из них верное. Также и шизофреническая деградация личности связана с нарушением иерархических отношений между элементами, составляющими эмпирическую личность. В результате больной перестает отличать реальность от собственных фантазий).
Все это говорит о том, что развитие личности и нормальное ее функционирование — связано с определенными ограничениями ее степеней свободы, установлением иерархических отношений между элементами знания (различение реального и воображаемого, желаемого и отвергаемого и т. д.).
Вместе с тем, как уже отмечалось, наличие в нас Универсума возможного не дает автоматически гарантии рефлексивного доступа к этим “возможным” слоям нашей психики. Поэтому наряду с процессами “наложения ограничений” на “мир возможного” — которые протекают преимущественно на дорефлексивном уровне, существует и обратный процесс постепенного перевода “потенциального” содержания нашей личности в “явный”, рефлексивный (точнее, доступный рефлексии) план. Это и есть процесс постепенного расширения и обогащения наших осознанных представлений о мире и о самом себе. Это расширение личности осуществляется по мере развития средств рефлексии (прежде всего, понятийного аппарата) и стимулируется чувственным опытом, социальным взаимодействием и т. д. Именно этот последовательный процесс самораскрытия нашего “Я” порождает видимость непрерывного “расширения” нашей личности, обогащения ее новыми содержаниями в процессе индивидуального развития. Причем это “расширение” обычно представляется как обогащение эмпирического “Я” за счет каких-то трансцендентных, внешних по отношению к субъекту объектов “внешнего мира”, которые мы постигаем в течение жизни.
Но поскольку за пределами “Я” ничего не существует, развитие личности — это, в конечном итоге, процесс ее внутреннего саморазвития, ее “саморазвертки”, актуализации изначально присущих ей потенций. Причем это развертывание осуществляется на фоне противоположного процесса самоограничения Абсолютного бытия, которое и порождает эмпирическую личность во всей ее конкретности (и, одновременно, порождает “внешний мир” (не-Я”) — как коррелят эмпирической личности).
4.3. Преодоление солипсизма
Идея имманентности “Я” и “Мира” сразу же порождает угрозу солипсизма. Если Мир — есть не что иное, как “мой возможный опыт”, то не следует ли отсюда, что существую реально лишь я один, что все “другие” — существуют лишь как мои действительные или возможные образы или представления?
Прежде всего, выясним: нужно ли бояться солипсизма? Следует ли априори исключать солипсизм как одно из возможных решений проблемы “другого Я”? И есть ли у нас убедительные способы преодоления солипсизма?
Иногда заявляют: “Искренне стоять на позициях солипсизма могут лишь обитатели психиатрических клиник, всякий здравомыслящий человек отметает солипсизм, как бредовую идею”. Указывают, в частности, что на презумпции реальности “другого” строится все наше социальное поведение и этика. Например, какой смысл мне писать данный текст, если никакого “другого”, который был бы способен его прочитать, не существует. Следовательно, если я пишу эту главу, то тем самым я уже неявно признаю, что верю в реальность моих потенциальных читателей, т. е. своими действиями я, если не теоретически, то практически отвергаю солипсизм.
Указывают, также, на этическую неприемлемость солипсизма. Следствием солипсизма обычно полагают ничем не ограниченный эгоизм. Если реально существую лишь только я, — то я вполне могу не считаться с интересами других людей, могу руководствоваться исключительно лишь своими собственными интересами, воспринимая других лишь как “неодушевленное” средство достижения моих целей.
Как представляется, не следует, все же, смешивать теоретические вопросы, с вопросами практическими и этическими. Те презумпции, на которых строится практика и этика, вполне могут оказаться ошибочными. Нужно дать себе отчет в том, что у меня, по крайней мере в настоящее время, нет никаких реальных доказательств “чужой одушевленности”, я не могу убедительно показать, что “другие” реально обладают сознанием, внутренним миром, реально способны чувствовать, мыслить, представлять и т. д.
То, что “другой” действует независимо от моей воли, — еще не доказывает его реальной автономии, его независимости от моей эмпирической личности. Ведь и во сне персонажи моих сновидений демонстрируют независимость от моей воли: я не способен ни управлять их поведением, ни предсказывать их действия. Но, тем не менее, все эти персонажи, как обычно полагают, существуют лишь как образы моего сознания.
Еще в 19 веке известный русский философ А.И. Введенский писал: “Существование чужого одушевления, пределы его распространения и продолжительность существования душевной жизни… лежит вне чисто эмпирического познания; и в этих вопросах, без всякого противоречия с опытом, можно допускать любые предположения” [29 с. 217]. Этот вывод вполне актуален и поныне. Напрасно было бы в данном случае ссылаться на “общественную” (и, следовательно, интерсубъективную) природу языка, культуры, а значит, и человеческого сознания. Ведь и во сне мы пользуемся языком, вступаем в социальные связи, действуем в некотором культурном контексте, — но это отнюдь не доказывает реальной одушевленности персонажей наших сновидений.
Не следует, также, думать, что солипсизм неизбежно влечет аморальность. Даже если я убежденный солипсист, эти мои убеждения вряд ли существенным образом отразятся на моем поведении: ведь “нереальность” окружающих меня людей и вещей не отменяет причинно-следственных связей, не отменяет того обстоятельства, что я могу получать от общества (даже иллюзорного) те или иные, необходимые мне блага лишь в том случае, если придерживаюсь определенных, принятых в данном обществе норм поведения. Поэтому, даже если я не верю в реальность “другого”, то я все равно вынужден вести себя так, как если бы этот “другой” реально существовал, — поскольку именно на этом строятся общепринятые нормы поведения.
Итак, “опровергнуть” солипсизм какими-либо теоретическими средствами не представляется возможным. Преодоление солипсизма, в таком случае, может заключаться лишь в том, что мы можем попытаться показать, что солипсизм не является единственной возможной онтологической перспективой, т. е. показать, что возможно вполне корректное, самосогласованное миросозерцание, принимающее реальность “другого”.
Для того чтобы хотя бы гипотетически утверждать реальность “другого” недостаточно просто сослаться на тот факт, что мы имеем идею “другого” на интуитивном уровне. Необходимо показать, как вообще эта идея возможна, как вообще возможно помыслить “другого” как одушевленное и, вместе с тем, независимое от меня существо. Как я вообще могу помыслить человека, обладающего внутренним миром, подобным моему внутреннему миру, но, тем не менее, не являющимся моим внутренним миром.
Суть проблемы в том, что всякая имеющая содержание идея должна иметь в своей основе вполне определенный опыт. Какой же опыт может лежать в основе идеи “другого Я” (“не моей” одушевленности)? Всякий опыт, по определению, и есть именно то, что дано мне лично, дано прямо и непосредственно и, т.о., составляет содержание именно моего внутреннего мира. Следовательно, никакого опыта, в котором мне был бы дан абсолютно чуждый мне, запредельный моему сознанию “внутренний мир другого”, нет и быть не может. Внутренний мир “другого” есть сфера “не моего” опыта и, следовательно, по самой своей природе не может входить в круг тех объектов, на которые я могу каким-то образом “указывать” или “иметь их в виду”.
Единственное, что я могу сделать, — это поставить себя на место другого, т. е. вообразить, что у меня другое тело, другая биография, другое содержание личного опыта, другая локализация в пространстве и во времени. Но такая мысленная подстановка себя на место другого не дает нам идеи “другого” именно как идеи “не моего Я”, “не моего внутреннего мира”. Я получаю здесь лишь идею “самого себя”, но существующего в иных, воображаемых обстоятельствах.
Отметим, что основанное на такой “подстановке” решение проблемы “другого” предлагал в свое время Э. Гуссерль [50]. Гуссерль исходил из того, что в составе изначального “трансцендентального” опыта я способен выделить объект, который я называю “моей психофизической структурой”. Это мое тело и те функции, которые ему присущи. Затем я обнаруживаю в составе опыта объекты, в той или иной степени сходные с моей психофизической структурой. Далее происходит то, что Гуссерль назвал “аналогизирующей апперцепцией”: исходя из отмеченного сходства, я прихожу к заключению, что так же, как “за” моей “психофизической структурой” стоит “трансцендентальный субъект” (“Я”, сознание), так и всякая другая психофизическая структура сопряжена с существованием подобного “не моего” трансцендентального субъекта. Каждый такой субъект имеет свой собственный внутренний мир, свой собственный “трансцендентальный опыт”.
Взаимная согласованность опыта различных трансцендентальных субъектов порождает то, что Гуссерль назвал “интерсубъективный мир”, в котором трансцендентальные субъекты объединяются в “сообщество монад”.
Несостоятельность этого способа рассуждений в том, что заключение о существовании “чужого Я” устанавливается здесь на основе аналогии с фактом существования “моего Я” и, следовательно, “чужое Я” оказывается лишь, по существу, тем же самым “моим Я”, но “спроецированным” на другую психофизическую структуру. Т. е. это опять же я, но в иных обстоятельствах. Бытие другого именно как бытие “не-Я” оказывается чем-то мне совершенно недоступным, чем-то абсолютно трансцендентным, запредельным по отношению к моему опыту.
Но трансцендентность, которая никаким образом не преодолевается имманентностью, как мы установили выше, немыслима — ведь наша мысль не может иметь в качестве своего предмета то, что выходит за рамки всякого возможного опыта. Если “не-Я” лежит абсолютно за пределами всякого опыта, то оно не может быть подлинным предметом моей мысли, т. е., когда я мыслю о “не-Я”, я на самом деле мыслю нечто иное, нечто имманентное опыту. Т. е. мыслю некоторое возможное содержание собственного “Я”.
Отсюда можно сделать вывод, что если “не-Я” реально существует, то форма существования этого “не-Я” не может быть ничем иным, как некой возможной формой существования моего собственного “Я”. Т. е. “другой” не только мыслится, но и реально существует как мое собственное “Я”, в каких-то иных, альтернативных жизненных условиях. Опираясь на теорию Гуссерля, мы приходим, таким образом, к некой новой (“мягкой”) форме солипсизма, которая не отрицает реальности “другого”, но, тем не менее, предлагает мыслить “другого” как самого себя, но в каких-то иных жизненных обстоятельствах. Т. е. “другой” — это тоже я, но родившийся в другом месте, в другое время, имеющий иную биография, иной жизненный опыт и т. д.
Эта точка зрения, если проводить ее последовательно, предполагает, что я не просто воображаю всякое “он” или “ты”, как альтернативное воплощение моего “Я”, но предполагается, что я реально проживаю (или проживал, или буду проживать) все другие человеческие (а возможно даже и не только человеческие) жизни. Как это возможно? Ведь “другой” может существовать одновременно со мной, и, следовательно, его внутренний мир может взаимодействовать с моим внутренним миром в реальном времени, оставаясь, тем не менее, “закрытым” для меня, т. е. оставаясь именно “не моим” внутренним миром.
Эту проблему можно разрешить, если учесть субъективный статус времени. Время — как я его непосредственно воспринимаю, — есть свойство моего собственного сознания, и существует оно только в моем сознании, точнее, в его “чувственной” составляющей — именно как “чувственно переживаемое” мною время. Никакого “объективного”, общего для всех времени не существует. (Существует, однако, “интерсубъективное” время, как некая “инварианта” взаимодействия феноменальных субъектов, т. е. как нечто “признаваемое” всеми в качестве “объективного времени”).
Но тогда вполне мыслимо, что то, что я воспринимаю в качестве существующего “сейчас” другого субъекта, есть на самом деле (т. е. в моем субъективном измерении времени), мое собственное будущее или прошлое. В этом случае разница между “Я” и “не-Я” такого же рода, как и различие между моим собственным существованием “сейчас” и “вчера”, “сегодня” и “завтра”. Иллюзия множественности “Я” есть просто следствие того, что я, находясь в “настоящем”, способен, тем не менее, взаимодействовать со своим прошлым и будущим. Это мое прошлое и будущее дано мне в настоящем как бы “извне” — в виде “чужой” телесной жизни, за которой, однако, скрывается мое собственное “Я”.
Мир в этом случае выглядит как “театр одного актера”, в котором я последовательно исполняю все роли, которые затем “монтируются” так, как если бы в одно и то же время существовало множество независимых друг от друга субъектов.
На самом деле, закончив один жизненный цикл, я перемещаюсь в прошлое (или в будущее) относительно шкалы “исторического времени”, и проживаю какую-то другую жизнь, в которой я уже воспринимаю свое прежнее воплощение как “другого”, с которым я способен теперь взаимодействовать лишь чисто внешним образом. Недоступность для меня внутреннего мира “другого” — есть, в таком случае, явление того же рода, что и недоступность для меня каких-то давних, “утраченных” (“хорошо забытых”) содержаний моей памяти. Т. е. это недоступность лишь относительная, а не абсолютная. Ясно, что такое устройство мироздания вполне возможно и отбрасывать данный вариант солипсизма как нечто несуразное, абсурдное, не стоит. История науки показывает, что нередко именно самые нелепые на первый взгляд предположения, если они, тем не менее, логически корректны, оказываются истинными. Достаточно вспомнить теорию относительности и квантовую механику. Нелепым, к примеру, кажется предположение, что тела испытывают сокращение линейных размеров в направлении их движения, которое, однако, невозможно зафиксировать, поскольку пропорционально уменьшается и длина линейки, с помощью которой мы осуществляем измерение. Однако такое положение дел логически возможно и, как показывают тонкие опыты со светом, именно это неправдоподобное, нелепое предположение соответствует действительности.
Можно предположить, что какие-то будущие исследования (например, исследование явлений типа “хронологической регрессии”, которые наблюдаются в состоянии гипноза [134] или одностороннего электорошока [9]) смогут подтвердить, что всякое “не-Я” — есть лишь прошлое или будущее состояние моего собственного сознания.
Главный недостаток этой концепции в том, что данная теория ведет к отрицанию человеческой свободы — понимаемой именно как свобода выбора. Действительно, если мой друг есть лишь одна из форм моего будущего существования, то, наблюдая его действия и поступки, я, тем самым, получаю исчерпывающую информацию о своих собственных действиях в будущем, о своих выборах, которые, таким образом, представляются мне уже состоявшимися. Следовательно, и те выборы, которые я делаю сейчас, также “уже состоялись” (с точки зрения моего прошлого эмпирического “Я”) и, следовательно, мне лишь кажется, что я свободен сделать любой выбор. Я как бы лишь разыгрываю заранее написанную роль — только в этом случае иллюзорный мир “множественных Я” оказывается самосогласованным.
Свободу воли в этом случае можно понимать лишь в духе Канта: как свободу некоего единого сверхвременного акта, в котором единовременно были установлены все мои возможные выборы, все возможные поступки во всей (возможно бесконечной) совокупности всех моих последовательных жизней. Такая гипотеза хорошо согласуется с весьма вероятно существующим на самом деле феноменом “пророчества” (прекогниции), но противоречит интуитивному ощущению собственной свободы выбора, — которая имеет место (как мы обычно себе представляем) “здесь” и “сейчас”.
Мы видим, таким образом, что истолкование “другого” как “проекции” “Я” на другую психофизическую систему не выводит нас за рамки солипсизма — именно поскольку “другой”, в данном случае, — как специфическая смысловая модальность (“не-Я”), отсутствует. “Другой” подменяется моим же собственным модифицированным “Я”.
Нельзя ли, однако, полностью преодолеть солипсизм и показать, что при определенных допущениях “другой” может мыслиться именно в качестве “другого”, как нечто не тождественное моему “Я”, как нечто реально трансцендентное по отношению к моему собственному существованию?
Проблема “другого Я” во многих отношениях подобна рассмотренной выше проблеме “трансцендентного предмета”. Мы показали, что трансцендентный предмет вполне допустим и может быть корректно помыслен только при условии, что эта трансцендентность не абсолютизируется, что она в конечном итоге преодолевается более фундаментальной имманентностью всего сущего моему “Я”. Т. е., иными словами, всякое разделение мыслимо лишь на фоне преодолевающего это разделение единства. Но никакие вещи не могут быть одновременно разделены и едины в одном и том же отношении, в одной и той же системе взаимосвязей. Это обстоятельство вынуждает нас постулировать фундаментальную “многослойность” бытия. Тогда мы можем сказать: то, что разделено в одном “слое” и, следовательно, трансцендентно, тем не менее, едино в другом “слое” и, следовательно, трансцендентность, будучи вполне реальной, преодолевается столь же реальной имманентностью.
Для неодушевленных предметов трансцендентность субъекту познания, как мы установили выше, имеет место в сфере чувственности, а имманентность — в сфере смысла (мышления). Мы воспринимаем чувственно образы вещей, но мыслим “сами вещи”. Перенося это заключение на одушевленные предметы, можно сказать: я воспринимаю “другого” на чувственном уровне “извне” — через его телесность и с этой стороны доступ к его внутреннему миру для меня закрыт. Но когда я мыслю “другого” — в этом случае “другой” дан мне “в подлиннике” — я имею доступ к его собственному “внутреннему” бытию. Однако в мышлении “другой” дан мне лишь как некая “сущность” (“идея”) и, следовательно, его бытие мыслится лишь как возможное, потенциальное. Иными словами, мне дан его подлинный “возможный” опыт, но без выделения в нем какой-либо “действительной”, “актуальной” части. Это означает, что хотя я не знаю, о чем конкретно думает или что чувствует “другой” в данный момент времени, но я доподлинно знаю, что он вообще может сейчас чувствовать или о чем он вообще может думать (хотя бы с точки зрения содержания этих его психических состояний). Мне известен общий “спектр” состояний его сознания, но не то, какие именно состояния из этого “спектра” реально осуществляются (или осуществлялись). По сути, это означает, что мне не известен его текущий “чувственный мир”: то, что он конкретно ощущает, представляет, о чем мыслит. Он не известен ни с точки зрения его конкретного текущего содержания, ни даже с точки зрения его конкретной формы. (Я не знаю, например, какой набор цветов он воспринимает, совпадает ли его “красное” с моим “красным” и т. д.). Я знаю лишь, какое содержание (чистая информация) вообще может присутствовать в его опыте.
Все это существенно отличает одушевленные объекты от неодушевленных. Для неодушевленного предмета вполне достаточно рассматривать его актуальное бытие лишь как “проекцию” его умопостигаемой “сущности” в мое сознание (в виде чувственного образа). “Бытие для себя”, в этом случае, просто совпадает с “сущностью” вещи, т. е. с той самой “потенцией” (или “идеей), которая и представляет данную вещь в составе моего “смыслового поля”. Но для одушевленных предметов этого не достаточно. Здесь я должны постулировать также и существование некоторой собственной приватной системы “актуального бытия” — в котором “сущность” данной вещи развертывается в чувственной форме неким “скрытым” от меня образом. Это актуальное бытие и составляет то, что можно назвать “текущим состоянием сознания другого”.
Эта сфера “чужого актуального бытия” для меня прямо (по крайней мере в моем обыденном опыте) не доступна. Единственно, что о ней известно — какого рода содержания вообще могут ее наполнять. Но я не могу априори знать, что чувствует в данный момент другой субъект и как именно он это чувствует, не могу знать, в какой последовательности сменяю друг друга текущие состояния его сознания.
Каким же образом я способен помыслить это самое “актуальное бытие другого”, если, конечно, я вообще способен его помыслить (если это не “псевдоидея”)? Ясно, что если содержательная мысль об “актуальном бытии другого” возможна, то она возможна лишь в силу того, что это трансцендентное бытие существует на фоне имманентно данной мне “сущности” другого (разверткой которой это бытие и является). Иными словами, я способен знать о существовании “чужой” сферы актуальных переживаний лишь в силу того, что “Я” и любой “другой” совместно укоренены в некой объемлющей нас “надындивидуальной” сфере бытия, в пределах которой мы едины. Эта надындивидуальная сфера — и есть, очевидно, Абсолютное “Я”.
Абсолютное “Я” присутствует в моем эмпирическом “Я” в полном объеме — как некий интегральный смысл (совокупность возможного опыта). Мое эмпирическое “Я” есть, одновременно, и само это Абсолютное “Я” и есть некая его участненная форма (самоограничение), в составе которой находится и мое “актуальное состояние сознания”. Но именно в силу полноты Абсолютного “Я” (вне Абсолютного “Я” ничего не существует) я обнаруживаю в себе — как часть моего возможного опыта — и возможности иных способов “участнения” Абсолютного “Я” и, соответственно, возможности альтернативной развертки содержаний возможного опыта в виде “текущих состояний сознания другого”.
“Другой”, таким образом, обнаруживается в моем опыте именно в качестве “другого”, именно как нечто для меня непроницаемое, непостижимое в его актуальном содержании. Я как бы “ощущаю” в своем интегральном духовном опыте нечто такое, во что ни мое восприятие, ни мое мышление проникнуть не может, но что я могу как бы “ощупать” извне, без проникновения “внутрь”. Я как бы обнаруживаю в себе “границы”, через которые я не могу проникнуть, нахожу предел, который и дает мне содержательно чистую мыслительную форму “иного”. Т. е. другой дан мне именно как некая “загадка”, как нечто “таинственное”, “непостижимое” — хотя эта непостижимость, как мы видели, существует лишь для текущих состояний сознания и снимается на уровне восприятия “сущности” (чистой идеи) другого.
Можно сказать, что мышление о “трансцендентном” имеет здесь чисто “остенсивный” характер. Я как бы лишь указываю на трансцендентное, как на данное в опыте, но не раскрываю его содержательно, не проникаю в него. Я как бы говорю “вот оно”, но не могу ответить на вопрос: “какое оно”. Но само это указание на трансцендентное возможно лишь в силу того, что оно подлинно присутствует в опыте (не раскрываясь содержательно) и, как таковое, имманентно моему “Я”.
Не означает ли все это, однако, что мы задним числом отказываемся от идеи имманентности всего сущего моему “Я” и т.о. отказываемся от тезиса “несуществования трансцендентного” (т. е. от тезиса: “быть — значит быть содержанием моего возможного опыта”)? Ведь “чужое актуальное (чувственное) бытие” — взятое содержательно и, в особенности, с точки зрения его формы, — уже не есть “мой возможный опыт”. Чтобы сохранить строгий “имманентный подход”, мы вынуждены далее постулировать также и относительность этой самой “непроницаемости” “чужого актуального бытия”. То есть мы должны допустить, что даже “чужой чувственный опыт” не есть что-то абсолютно запредельное, недоступное для моего сознания. Следовательно, необходимо предположить принципиальную возможность “взаимопроникновения” различных сознаний, возможность прямого обмена между ними чувственной (и иной) информацией. И такие явления, видимо, существуют. Мы имеем в виду “телепатию” , а также такой феномен, как “медиумизм” [8, 68, 96].
Реальность телепатии пока не признается официальной наукой (Несмотря на то, что существует обширная литература, в которой описываются весьма тщательно выполненные эксперименты, подтверждающие ее существование [8]). Но даже на бытовом уровне это явление весьма часто наблюдается (см.: [208]). Еще меньше оснований отрицать реальность медиумизма. Можно спорить действительно ли здесь имеет место “общение с духами отошедших” или же медиум общается “с собственным подсознанием”, но само существование явления “расщепления” сознания медиума во время “спиритических сеансов” и проявления в нем неких “иных Я”, неподконтрольных сознанию медиума, подтверждено множеством наблюдений и никем по существу не оспаривается.
С нашей точки зрения нет принципиальной разницы с кем общается медиум: с “духами” или с собственным “подсознанием”. Если “духи” (другие “Я”) умерших или живых людей (а медиумическое общение возможно и с “духами” спящих живых людей [68]) существуют, то они существуют именно “в моем подсознании” (которое и есть, по сути, Абсолютное “Я”) — которое на самом деле вбирает в себя весь мир, все реально существующее.
Если эти явления существуют (что весьма вероятно), то они ясно показывают, что наши “души” взаимно проницаемы. Ни сфера чувственного восприятия, ни индивидуальная память — не являются чем-то абсолютно замкнутым в себе, чем-то таким, во что невозможно “проникнуть” извне. Следовательно, приватность “внутреннего мира” не абсолютна, а относительна. Чужой “актуальный (чувственный) внутренний мир” мне доступен, конечно, гораздо меньше, чем, скажем, мой собственный прошлый опыт, мои воспоминания. Но различие здесь не качественное, а скорее количественное — это различие в степени и полноте доступности мне тех или иных чувственных или мыслительных содержаний. Грубо говоря, “чужой опыт” — это как бы что-то “очень хорошо забытое” (подобно младенческому опыту), но при определенных условиях этот опыт вполне может стать доступным — и тогда мы наблюдаем то, что называют “сверхчувственным восприятием”, “телепатией”, “ясновидением” и т. д. Сюда же следует включить и описанные в литературе случаи т. н. “реинкарнации” (см., например: [304]).
Таким образом, если принять реальность всех этих “необычных” психических явлений, то мы можем всякое бытие помыслить как бытие “моего возможного опыта”, который, однако, обладает разной степенью доступности и, таким образом, мы получаем некую иерархию степеней относительной “трансцендентности” этого опыта. Признание реальной множественности “Я” совместимо с идеей имманентности мира “моему” сознанию только в том случае, если эта множественность — носит не субстанциональный, не абсолютный, временный характер. Последнее означает, что на каких-то этапах эволюции мира эта множественность должна упраздняться и восстанавливаться единство “Я”. Все отдельные “Я”, в таком случае, следует мыслить как временно обособленные части некоего “единого Я”. Даже чувственный опыт “другого” — рано или поздно станет и моим чувственным опытом и, поэтому, даже этот опыт — не есть что-то абсолютно трансцендентное, непроницаемое для моего “Я”.
Нужно, также, отметить, что согласно нашей концепции смысла, “чужой чувственный опыт” должен так или иначе присутствовать в составе “смыслового поля” (как “потенциально достижимый опыт”) и, следовательно, должен участвовать в процессе смыслообразования (являясь компонентой общей идеи “другого”). Именно по этой причине мы не можем “потенциальность” смысла интерпретировать как полную, абсолютную его лишенность чувственной формы. Поскольку потенциальность – это всегда возможность некоего вполне определенного актуального бытия, то нужно признать, что это актуальное бытие “виртуально” присутствует в своей собственной потенции. Смысл, т.о., лишь как бы “на поверхности” лишен свойств чувственности (пространственности, временности, качественности), но где-то “в глубине” смысла эти чувственные свойства все же существуют в какой-то, “неявной”, “свернутой”, “скрытой” форме. Только поэтому, владея сущностью (смыслом) вещи или другого “Я”, мы можем также “иметь в виду” и их “действительное”, актуальное бытие (т.е. их чувственное “в себе бытие”).
Но на этом, однако, анализ проблемы “другого Я” не заканчивается.
Как отмечалось, “другое Я” дано мне имманентно на уровне “сущности” — как содержание (но не конкретная актуальная форма) возможного опыта “другого”. Но каково конкретное содержание этого возможного опыта? Из нашей теории следует, что любое эмпирическое “Я” в своей основе содержательно совпадает с Абсолютом, и т.о. содержит в себе ВЕСЬ возможный опыт (Универсум опыта). Вместе с тем, каждое конкретное “Я” есть некая конкретная форма самоучастнения Абсолютного “Я”. Причем участняясь, Абсолютное “Я” продолжает существовать во мне (и любом “другом”) и в неучастненной форме.
Если содержательно все возможные “Я” тождественны, то мы вынуждены будем отождествить “индивидуальное Я” с “Я” эмпирическим, что опять приводит нас к мысли, что все “Я” сущностно тождественны и различаются лишь теми случайными обстоятельствами, которые сопровождают их появление в эмпирическом мире (место и время рождения, социальная среда, наследственность и т.п.). Что в таком случае определяет тот факт, что я — это я, а не какой-нибудь другой субъект? Лишь то, где и когда я родился, где обучался, с кем общался и т. д. Т. е. тождественность моего “Я” в этом случае целиком и полностью определяется моей биографией, обстоятельствами моей жизни. Если бы я родился в другом месте, в других обстоятельствах — то это был бы уже не я. Мое индивидуальное “Я” — есть лишь некая себетождественная “траектория” моей жизни, мой конкретный “жизненный путь”. Но этот “путь” окончательно и полностью определяется лишь в момент моей смерти. Как же я, в таком случае, уже сейчас способен существовать как вполне определенная себетождественная индивидуальность?
Если я свободен в своих поступках — то я в любой момент могу радикально изменить свою жизнь, но это, очевидно, не должно приводить к потере тождественности моего “Я”. Т.о., если я реально свободен и тождественен сам себе, то мое индивидуальное “Я” (к которому мы и относим понятие “себетождественность”) есть нечто большее, чем мое “эмпирическое Я”.
Как уже было показано выше, “Я” — нельзя противопоставлять “переживаемому опыту”. “Я” — это и есть все то, что я переживаю, т. е. ощущаю, чувствую, представляю, понимаю, мыслю, желаю и т. д. Если “траектория” моей жизни (судьба) не предопределена однозначно, то опыт, из которого я “состою”, также не задан однозначно. Следовательно, нам остается постулировать, что “Я” в каждый момент времени есть ВЕСЬ мой возможный опыт, ВСЕ возможные жизненные траектории. Но тогда “Я” есть не просто конкретная эмпирическая личность, но бесконечная совокупность (“пучок”) всевозможных (допустимых) “моих” эмпирических личностей. Т. е. все возможные поведенческие выборы в этом случае нужно представить как “уже сделанные” и существующие “неявным” образом в неком “надвременном” плане бытия. Иначе нам никак не совместить свободу выбора и себетождественность “Я”. Эта совокупность всех моих возможных (“виртуальных”) эмпирических личностей и образует подлинное (“метафизическое”) мое индивидуальное “Я” (см., об этом также гл.2). Это метафизическое “Я” — и есть, по существу, то, что мы ранее обозначили как “сущность” того или иного эмпирического субъекта. Эмпирическое “Я” — это лишь одно из возможных самообнаружений метафизического “Я” (частичная актуализация его “сущности”). Всякое “другое Я” — также есть некий бесконечный “пучок” “его” возможных эмпирических личностей.
Если реально существует множественность субъектов, то все существовавшие, существующие и возможные будущие “метафизические Я” — должны каким-то образом отличаться друг от друга. Чем же конкретно могут отличаться “мое” и “не мое” метафизическое “Я”? Это отличие, очевидно, не касается полного объема возможного опыта, который доступен конкретному субъекту. И я и “другой” — есть различные формы “самоучастнения” Абсолюта. Но специфика этого участнения проявляется не в ограничении общего объема опыта (поскольку Абсолют присутствует в каждом субъекте в полном объеме), а, видимо, в том, каким образом, в каком порядке этот опыт может быть развернут в эмпирическом сознании в виде последовательности “актуально переживаемого” (т.е. последовательности переживаемых чувственных впечатлений, представлений, смысловых состояний). Именно этот “порядок развертки” и определяет структуру “пучка” виртуальных личностей, которая и образует мое подлинное “Я” — как некую стационарную (надвременную) структуру. Именно стационарность (неизменность) этой структуры и ее “всевременность” — и обеспечивают мою себетождественность. Я — это просто некое вполне определенное, но по большей части лишь потенциальное, содержание моего опыта. В этот возможный опыт входят любые мыслимые переживания, любые состояния сознания, но, вместе с тем, видимо, могут существовать лишь строго специфичные для каждого субъекта допустимые “траектории развертки” этих возможных состояний в актуальном опыте. Каждая из этих траекторий – есть вполне определенная возможная “судьба”, которой соответствует определенная эмпирическая личность.
Подчеркнем, что эти допустимые “траектории развертки” составляют некий “спектр” возможностей, из которых субъект может свободно выбирать. В противном случае все события моей жизни были бы однозначно предопределены и мы пришли бы к жесткому фатализму. Даже сами эти “траектории” могут быть заданы неоднозначно, например, в виде некоторого “распределения вероятностей” осуществления того или иного конкретного поведенческого выбора.
Все эти неоднозначности и объясняют, почему я в каждый момент времени воспринимаю некий спектр альтернатив, из которых я могу сделать свободный выбор. То, что, осуществляя этот выбор, я могу испытывать сомнения, колебания — говорит о том, что все эти альтернативы реально присутствуют в моем сознании — хотя бы в качестве отвергаемых альтернатив. Более того, полнота присутствия во мне Абсолюта требует, чтобы в состав этих самых “отвергаемых” альтернатив мы включили и те “траектории” (“виртуальные личности”), которые принадлежат “другим Я”. То есть во мне (поскольку я причастен Абсолюту) присутствует не только “мое” “метафизическое Я”, но и любое другое “метафизическое Я”. Это соответствует ранее сделанному выводу, что я обладаю непосредственным априорным знанием “сущности” любого “другого”, что и позволяет мне иметь содержательную идею “другого”. Каждый возможный “другой” изначально “живет” во мне (как потенция его собственного актуального бытия), “живет” как бы в моем подсознании и, таким образом, может “прямо” обнаруживать себя во мне помимо опосредованного чувственного контакта (этим, вероятно, и объясняются явления телепатии и медиумизма, которые мы обсуждали выше).
Из сказанного следует, что специфика моего “Я” целиком определяется системой выборов, — в которых я нечто “принимаю” и нечто “отвергаю”. Т. е. “фактор индивидуации” — есть не что иное, как моя воля или, более обобщенно, моя мотивационная сфера. Действительно, специфику моего личностного существования определяет отнюдь не содержание моего чувственного восприятия (которое жестко детерминировано “извне”), а также и не содержание моего ”чистого (логического) мышления”, поскольку последнее, в силу требования общезначимости, не должно нести отпечатков конкретной личности. (Хотя в творческом мышлении, воображении — моя индивидуальность безусловно присутствует). То, в чем моя специфическая индивидуальность более всего проявляется — это именно система моих отношений к миру, система оценивания окружающей меня действительности. Но всякое отношение или оценивание предполагает, явно или неявно, поведенческий выбор и, следовательно, именно этот выбор определяет специфику моего “Я”, определяет то, чем мое “Я” отлично от других “Я”.
Отсюда следует, что выборы, которые я осуществляю, не являются случайными и, также, не определяются целиком и полностью какими-либо внешними по отношению к моей эмпирической личности обстоятельствами. Эти выборы, по крайней мере отчасти (и возможно даже не жестко), детерминируются непосредственно моим индивидуальным “Я”. Только такие выборы и можно назвать действительно свободными. Ведь свобода выбора и означает способность к самодетерминации, т. е. способность “Я” обуславливать свои собственные действия, приписывать самому себе законы собственного поведения.
Вместе с тем, поскольку “Я” — это и есть совокупность всего того, что я способен переживать (с учетом порядка развертки этих переживаний во времени и с учетом моей оценки переживаемого), то мы должны признать, что свобода выбора не только определяется действием моего “Я”, но и, по существу, эти выборы конституируют само это индивидуальное “Я”, определяя его конкретное содержание. Действительно, именно эти выборы (которые я делал, делаю и буду делать) определяю специфический “рисунок” того самого “пучка” “виртуальных личностей”, которые и составляют в совокупности мое подлинное “Я”. И именно этот “рисунок” отличает мое “Я” от всякого другого “Я”.
Таким образом, хотя я, в принципе, могу переживать все, что угодно (в этом и заключается потенциальная абсолютность моей личности), но, видимо, на возможные последовательности и сочетания этих переживаний накладываются специфические ограничения (возможно даже вероятностного характера). Эти ограничения определяются именно тем влиянием на мою жизнь (и, следовательно, на возможные сочетания переживаний), которое проистекает из тех поведенческих выборов, которые я реально осуществляю (или мог бы осуществить при соответствующих обстоятельствах). Совокупность этих ограничений, которые, в принципе, могут касаться любых составляющих моего внутреннего мира, образует то, что можно назвать “самостью” (или “асеитетом”) — это и есть та самая содержательная специфика моего “Я”, которая отличает мое “Я” (как специфическое, структурированное содержание возможного опыта) от всякого другого “Я”.
Подчеркивая значимость свободных волевых выборов — как “канала”, через который проявляет себя “самость”, мы тем самым подчеркиваем, что индивидуальное “Я” специфично (по отношению к “не-Я”) не только и не столько как субъект познания, но специфично именно как субъект деятельности. Деятельность создает еще один (наряду с чувственностью) уровень бытия в составе Абсолюта, в котором проявляется относительная трансцендентность (обособленность) личностного бытия каждого конкретного “Я”. Но все эти формы трансцендентности преодолеваются в сфере “чистого смысла” — здесь все “Я” сливаются с Абсолютом в едином “смысловом поле”, которое имеет надындивидуальное существование — присутствует “в подлиннике”, не распадаясь на “экземпляры” или “копии”, в каждой конкретной личности.
Сфера “чистого смысла” — это уровень отвлеченного мышления, т. е. мышления, в котором мы отвлекаемся от любого чувственного содержания и необходимости действовать, и имеем дело с “чистыми сущностями” (“эйдосами”). Это то, что Гегель называл “спекулятивным мышлением”. Хотя как действующее (и оценивающее) существо я обладаю индивидуальностью и приватностью не только в сфере чувственного восприятия, но и на “сущностном” уровне (т. е. представляю собой как бы некую “неизменную идею” своего собственного существа, вечно пребывающую в составе Абсолюта), но, когда я отвлекаюсь от необходимости действовать, оценивать, выбирать — я обнаруживаю в себе нечто надындивидуальное, преодолевающее различие “Я” и “не-Я”, субъекта и объекта и, следовательно, обнаруживаю в себе и все “другие Я” — как своего рода “части” этого надындивидуального целого.
Эти “другие Я”, как уже сказано, даны мне в качестве некоторых совокупностей “отвергаемых” мною вариантов возможных действий (выборов). Действительно, через этот акт “отвержения” я, собственно, и утверждаю собственную индивидуальность, свою “самость” и себетождественность. Но, как уже отмечалось, то, что мною отвергается (как “не мое”) — именно в силу этого должно быть представлено в моем опыте (как “отвергаемое”) — иначе я не мог бы его отвергать. Значит, всякое “не-Я” содержится в составе “Я”, как то “внешнее”, по отношению к которому я утверждаю себя в качестве “внутреннего”. Мысля себя “ограниченным”, я тем самым должен мыслить и то целое, из которого я себя выделяю, мыслить то “неограниченное” — по отношению к которому я ограничен.
Все это означает, что хотя мое индивидуальное “Я” — есть некая специфическая форма самоограничения Абсолюта, тем не менее, в составе моего “Я” присутствуют также и все иные возможные формы его самоограничения. Я есть нечто большее, чем просто конкретное “Я”. Я не равен сам себе — я больше самого себя. Именно это и обуславливает, как отмечалось, мою способность к самоосознанию — способность сознавать себя в качестве выделенной части всеединого бытия. Это обуславливает и мою способность мыслить “трансцендентное” (запредельное по отношению к моей эмпирической личности) и, в частности, мыслить “другого”. Эта моя двойственная природа (неравенство самому себе) — и определяет, по существу, всю специфику моего положения в мире как человеческой личности.
Итак, мы приходим к выводу, что актуализации (перевод смысла в форму чувственности), относящиеся к другим “Я” происходят в том же самом смысловом поле, которое составляет и основание моего собственного “Я”. Т.е. все “иные “Я” и потенциальной и актуальной своей частью находятся во мне, а не вне меня и т.о. составляют часть моего смыслового поля (создавая, в частности во мне идею “другого”). То, что содержание сознания другого мне не доступно, связано, видимо, с функциональными свойствами сознания, с моей ограниченной рефлексивной способностью (а не с онтологической раздельностью субъектов), которая не может связать актуальные (чувственные) состояния других “Я” с моей текущей психической деятельностью. Т.е. тот “блок”, который не дает мне проникнуть в актуальные переживания другого, примерно того же рода, как и блок, закрывающий доступ к некоторым моим воспоминаниям (например, память о снах, младенческая память и т.п.). Явления телепатии, медиумизма, и т.п. однако, доказывают, что эти чужие актуальные “Я” (чувственные субъективные миры) все же содержатся во мне и иногда (в особых условиях) могут стать содержанием моих рефлексивных актов. В сознании, вероятно, имеется некий “фильтр”, который защищает мое сознание от вторжения других “Я”, но этот фильтр не абсолютен. Он может быть отключен в состоянии транса, гипноза, сенсорной депривации, действии наркотиков и т.п.
Можно предположить, что если сознания двух индивидов наполнены примерно одним и тем же сенсорным содержанием в течении длительного времени и они используют при этом сходные представления, сходно понимают происходящее – это должно вести к частичному взаимопересечению сознаний и возникновению спонтанной телепатии, что действительно наблюдается между близкими людьми. Возможны временные слияния сознаний в состоянии “двуединства” (которое описывает в своих работах С. Гроф, сюда также можно отнести феномен “общих сновидений” существование которых признает такой серьезный исследователь сновидений, как С.Лаберж). Однако, существование уникальной самости (если она действительно существует), не позволяет, видимо, постоянно переживать такое слияние сознаний. Самость вносит различия в действия и оценки субъектов и т.о. содержания их сознаний утрачивают тождественность (т.к. субъекты воплощают изначально различные “траектории” развертки Абсолюта, представляют различные “ракурсы” видения единого Абсолюта).
Безусловно, проведенные в этой главе рассуждения многим покажутся слишком абстрактными, умозрительными, оторванными от практики и чувственного опыта. С нашей точки зрения всякая умозрительная метафизика может оправдана лишь в предположении, что она рано или поздно может быть переведена на язык фактов, может быть каким-то образом “спроецирована” в плоскость конкретно-научных исследований.
В связи с этим полезно рассмотреть вопрос: какие проверяемые предсказания можно сделать, принимая за основу ту или иную версию решения проблемы “другого Я”? Принципиальное различие, в частности, существует между рассмотренной выше “мягкой” версией солипсизма (интерпретирующей “не-Я” как мое собственное “Я” в прошлом или в будущем) и концепцией, признающей реальной видимую множественность индивидуальных “Я”. Суть различия в том, что в первом случае отсутствует какое-либо сущностное отличие “меня” от “другого”. Все межличностные различия сводятся к совокупности внешних факторов, таких как место и время рождения, социальное окружение, генотип и т.п. Личность в этом случае — есть результат сложного, нелинейного взаимодействия всех этих факторов. Она не имеет какой-либо своей собственной внутренней основы (“самости”), которая определяла бы облик личности помимо всех этих внешних факторов, и которая была бы способна “сопротивляться” воздействиям извне, ограничивая тем самым потенциальную пластичность личности и, вместе с тем, придавая ее развитию характер спонтанности, непредсказуемости.
Напротив, концепция, признающая реальную множественность “Я”, предполагает именно сущностное различие “Я” и “не-Я”, предполагает существование “самости” и, следовательно, предполагает принципиальную невозможность трансформации одной эмпирической личности в другую. Личность, с этой точки зрения, уже не есть простой продукт взаимодействия социальных и биологических факторов. Она имеет основание, отчасти, в себе самой, обладает “асеитетом”, внутренней автономией, ее пластичность ограничена.
Ясно, что эти две точки зрения предполагают совершенно разное понимание механизмов развития личности и характера ее взаимодействия с окружением. И эти различия, в принципе, можно перевести на язык “фактов” и, таким образом, перевести данную “метафизическую” проблему в плоскость эмпирических исследований (в области, скажем, “экспериментальной педагогики”). Например, вторая теория предсказывает возможность существенного различия личностей однояйцовых близнецов, которые воспитывались в тождественной социальной среде.
К сожалению, имеющиеся в нашем распоряжении факты пока не позволяют дать предпочтение той или теории. Имеющиеся данные позволяют убедительно аргументировать как в пользу первой, так и в пользу второй точки зрения. Можно все же надеяться, что дальнейшие исследования помогут нам сделать однозначный выбор между ними.
Другое проверяемое различие между этими теориями заключается в том, что первая (“мягкий солипсизм”) допускает возможность доступа к опыту любых будущих “эмпирических личностей”, а, следовательно, и возможность сколь угодно точного предсказания будущих событий (поскольку будущее (по крайней мере, ближайшее) здесь с необходимостью должно мыслится как уже определившееся, уже состоявшееся). Вторая теория, напротив, предполагает свободу выбора и, следовательно, принципиальную непредсказуемость будущего. Следовательно, если мы признаем реальность феномена “пророчеств” (особенно пророчеств, касающихся отдаленного будущего) то, видимо, мы должны отдать предпочтение первой теории (хотя возможность пророчеств, конечно, и не является доказательством абсолютной истинности данной версии солипсизма).
5. ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
5.1. Критика натуралистических подходов к решению психофизической проблемы
Современное состояние психофизической проблемы можно характеризовать следующим образом. С одной стороны, существует огромный массив анатомических, нейрофизиологических, нейропсихологических, патопсихологических и прочих исследований, которые ясно указывают на тесную связь индивидуального сознания с мозгом. Нам, к примеру, известно, что различные локальные повреждения мозга вызывают специфические нарушения психических функций, таких как восприятие, память, мышление и т.п. Причем характер этих нарушений таков, что их невозможно объяснить исходя из предположения, что человеческий мозг есть лишь некое “посредующее звено”, связывающее нематериальную “душу” с внешним миром. Мозговые дисфункции могут не просто нарушают связи на линии “тело-душа”, но, нередко, извращают само течение душевных процессов.
Учитывая все это, следует признать, что мозг существенно участвует в процессах, обеспечивающих нормальное осуществление психических функций. Нормальная работа мозга — необходимое условие существования человеческого сознания. Отсюда, однако, логически строго не следует, что мозг является также и достаточным условием существования сознания. Более того, систематически истолковать сознание исключительно как функцию нейрональной системы мозга весьма затруднительно. Здесь возникают существенные возражения как фактического, так и концептуального характера.
Подчеркнем, что речь здесь идет отнюдь не об известной идее о “социальной обусловленности сознания”. Индивидуальное сознание, конечно, формируется под влиянием социально-культурного окружения. Но, если мы принимаем тезис: “сознание есть функция мозга”, то все эти социально-культурные факторы должны в конечном итоге аккумулироваться в структурных и функциональных свойствах нейрональных систем, поскольку только последние непосредственно управляют наблюдаемым нами поведением.
Начнем с того, что до сих пор не имеется убедительных доказательств, что нейрональная сеть человеческого мозга в принципе способна обеспечить то сложное, многообразное поведение людей, которое мы реально наблюдаем.
Мозг состоит примерно из 100 миллиардов нейронов (из них около 14.10^9 приходится на кору больших полушарий). Каждый нейрон имеет в среднем около 5 тысяч синапсов и может посылать сигнал примерно 10 тысячам других нейронов. Частота разрядов нервных клеток — в среднем около 100 гц. Если предположить, что каждый сигнал содержит 5 бит, то общая производительность мозга составляет 10^17 ops [23]. Но, учитывая избыточность мозга эту величину можно уменьшить примерно на три порядка (10^14). Объем памяти человека оценивается примерно в 10^17 — 10^20 бит (последняя оценка принадлежит И. фон Нейману).
Какими вычислительными возможностями обладает вычислительная система с такими параметрами? Как показали в свое время У.С. Маккаллок и У. Питтс, нейрональные сети при определенной их организации способны выполнять функцию универсального вычислительного устройства, — т. е. является универсальным преобразователем информации. Это означает, что мозг способен, в принципе, делать все то, на что способны современные компьютеры. Поэтому мы вполне можем сопоставить мозг с компьютером, обладающим подобным объемом памяти и сопоставимой производительностью. Производительность самых мощных современных многопроцессорных суперкомпьютеров достигла уже 1015 ops. Это лишь на порядок больше, чем производительность мозга (с учетом избыточности). С этой точки зрения вычислительные ресурсы мозга следует оценить как весьма значительные.
Однако это сопоставление не вполне корректно. Компьютер состоит из относительно небольшого числа быстро работающих процессоров, тогда как мозг — из очень большого числа очень медленно работающих элементов. Также весьма различается скорость передачи информации в мозге и в компьютере. Скорость распространения нервного импульса в ЦНС колеблется в основном в пределах 1-100 м/c, тогда как скорость сигнала в компьютере почти равна скорости света. Задержка сигнала на одной нервной клетке составляет примерно 1,5 мсек. Известно, что достаточно сложные когнитивные задачи (распознавание образов и т.п.) могут решаться за 150 — 450 мсек. За это время сигнал в центральной нервной системе успевает переключиться с одного нейрона на другой не более 100-300 раз. Этого явно недостаточно для сколько-нибудь сложной обработки информации. Это низкое быстродействие нейронов, как обычно полагают, компенсируется их большим общим числом. Т. е., иными словами, высокая производительность достигается за счет существенного распараллеливания “вычислений”. Однако, как показывают исследования, распараллеливание в общем случае не дает большого прироста вычислительной мощности. Так, для оптимальных (высокоскоростных) процессоров возможен прирост производительности за счет распараллеливания не более чем на 2-3 порядка [60]. Использование большого числа параллельно работающих элементов порождает большие трудности в организации обмена информацией, в согласовании деятельности отдельных процессоров, в распределении между ними элементарных подзадач. Известно, также, что далеко не все задачи, успешно решаемые последовательными компьютерами, допускают распараллеливание. Так, в свое время М. Минский, анализируя возможности перцептронов (в которых используются сетевые, распределенные принципы организации вычислений), показал, что некоторые простые задачи, легко разрешимые для последовательных алгоритмов, неразрешимы для перцептронов (например, задача распознавания топологической связанности предъявленного изображения [127]). Заметим, также, что гипотеза о параллельных вычислениях в мозге противоречит непосредственно переживаемому нами факту единства сознания и противоречит очень малой способности человека совершать параллельно сразу несколько различных интеллектуальных действий.
Из всего сказанного следует, что мы пока не способны адекватно оценить вычислительную мощность человеческого мозга. Но, все коррекции, видимо, должны привести к весьма существенному уменьшению предельной производительности, которую выше мы определили числом 10^17 ops. (и даже должна быть гораздо ниже величины 10^14 ops.). Т. е., мы можем сделать вывод, что вычислительная мощность мозга (точнее, его нейрональной системы), видимо, не намного отличается от вычислительной мощности современных суперкомпьютеров. Но реально человек существенно превосходит компьютеры в способности решать очень многие классы задач (распознавание образов, понимание текстов на естественных языках, перевод с одного языка на другой, принятие оптимального решения в неформализумой ситуации и т.п.). Т.о., весьма сомнительно, что все эти способности могут быть реально обеспечены только лишь нейрональными сетями нашего мозга. Очень трудно, в частности, объяснить каким образом мозг способен хранить столь огромный объем сенсорной и прочей информации (~ 10^17 — 10^20 бит). (Некоторые факты указывают, что наша психика, вероятно, фиксирует абсолютно всю поступающую в течение жизни сенсорную информация. Ничего на самом деле не забывается. Так, при определенных условиях (гипноз, электрическое раздражение некоторых зон мозга [325] — удается извлечь казалось бы давно забытые воспоминания прошлой жизни. Если эта идея верна, то совокупная память (за 60 лет жизни) дает цифру 10^17 — 10^20 бит). Следовательно, в осуществлении психических функций могут участвовать какие-то другие, неизвестные нам механизмы, которые и позволяют существенно повысить эффективность работы мозга.
Нам могут возразить, указывая на те общеизвестные данные нейрофизиологии, нейропсихологии и патопсихологии — которые явно показывают не только зависимость психических функций от нормального функционирования мозга, но и показывают, что мозг осуществляет те или иные конкретные операции с информацией. Например, мы хорошо знаем каким образом кодируется информация в сенсорных системах, знаем, отчасти, как эта информация обрабатывается в подкорковых центрах и в коре [69]. Локальные поражения мозга нередко приводят к очень специфичным, парциальным нарушениям восприятия, мышления, мотивации и т. д. (например, при “пальцевой агнозии” нарушается лишь способность запоминать названия пальцев руки и ничего больше, при “акалькулии” — нарушается способность к счету и т. д.). Это говорит о том, что определенные когнитивные операции привязаны к локальным зонам мозга и, следовательно, мозг реально участвует в осуществлении этих операций.
Отсюда вытекает несостоятельность дуализма декартовского типа. Тело отнюдь не есть “машина”, управляемая нематериальной “душой”, и функция мозга отнюдь не сводится к обеспечению связи “души” с сенсорными “входами” и моторными “выходами”. Но, с другой стороны, все эти данные психофизиологии и не доказывают неопровержимым образом, что “психика есть функция мозга”. Эти данные лишь указывают на то, что мозг существенным образом участвует в осуществлении высших психических функций, но отсюда не следует, что нейрональные процессы — это достаточное условие существования человеческого сознания и что мозг, посредством нейрональных процессов, целиком и полностью осуществляет такие функции, как восприятие, мышление, память и т.п.
Здесь можно использовать такую аналогию: вообразим существо, которое по каким-то причинам не способно воспринимать процессор компьютера, но может видеть все другие его детали. Воздействуя на блок питания, плату т.д. — это существо, несомненно, обнаружит связь этих деталей компьютера с его функциями. Причем, эта связь будет иметь весьма избирательный характер. Разрушая или модифицируя те или иные части компьютера, это существо будет наблюдать различные, специфичные для каждого воздействия изменения в поведении компьютера и, видимо, оно вполне может прийти к выводу, что все эти видимые детали в совокупности (без процессора!) обеспечивают все основные вычислительные функции, что, как мы знаем, не верно. Однако детальный анализ схемы соединений деталей и анализ их функциональных возможностей — может привести это существо к выводу, что имеются еще и какие-то “невидимые” компоненты, которые также необходимы для нормальной работы компьютера.
Имеющиеся у нас данные о мозге и его функциях, как нам представляется, с большой вероятностью указывают, что здесь мы находимся примерно в такой же ситуации. Есть нечто “невидимое”, не учитываемое нами, что помимо нейрональной системы вносит вклад в осуществление психических функций и без этого “невидимого” наше сознание существовать не может.
До сих пор мы рассматривали сознание с чисто функциональной точки зрения — как некий “внутренний механизм”, обеспечивающий осознанное, разумное поведение человека. Но сознание есть, вместе с тем, и “внутренний мир”, “субъективная реальность”. В этом “внутреннем мире” мы обнаруживаем такие феномены, как ощущения, чувственные образы, представления, смыслы, желания и т. д. — которые, очевидно, есть нечто совершенно отличное от нейрональных процессов. Возможно ли корректно рассматривать эти субъективные явления как “функцию мозга” или как “продукт нервной деятельности”?
Тезис: “сознание (внутренний мир) — есть функция мозга” вызывает возражение уже с точки зрения простой логики. Непонятно каким образом вообще возможно отождествить вещи столь различные: явления внутреннего мира, с одной стороны, и физико-химические процессы в нейрональных сетях, с другой. Ясно, что никакой внутренне необходимой связи между, скажем, ощущением света и разрядами нервных клеток в зрительной коре не существует. Мы вполне, без всяких противоречий, можем представить себе, что нервный процесс происходит, но никаких ощущений при этом не возникает.
Из самой идеи нервного процесса отнюдь не следует, что этот процесс должен сопровождаться какими-либо субъективными явлениями. Исследования показывают, что один и тот же нервный процесс в одном случае может сопровождаться ощущением, а в другом — нет. Например, установлено (с использованием методов регистрации вызванных потенциалов), что при некоторых формах наркоза кора мозга работает практически так же, как в нормальном состоянии. Кора также обрабатывает сенсорную информацию, но никаких ощущений, при этом, не возникает.
Мы вполне можем представить себе некое существо, которое внешне выглядит как человек и поведенчески проявляет себя тоже как человек, но которое напрочь лишено какого-либо “внутреннего мира”. (В современной англоязычной литературе такое существо получило название “зомби” (238). “Зомби” ведет себя так, как будто бы он что-то чувствует, видит, о чем-то мыслит, что-то понимает, что-то эмоционально переживает и т. д., тогда как на самом деле он лишь имитирует наличие ощущений, образов, мышления, понимания и эмоциональных переживаний.
Если мы допускаем существование “зомби”, то “внутренний мир” превращается в эпифеномен — некий бессильный и бесполезный придаток нервных процессов. Субъективные феномены в этом случае, никакой полезной функцией не обладают и, следовательно, смысл их существования совершенно не понятен. Кроме того, совершенно не понятно каким образом в этом случае мы вообще способны с достоверностью судить о наличии в нас этого самого “внутреннего мира”. Ведь сам факт наличия в нас каких-либо “переживаний” — никак тогда себя не обнаруживает. Если вдруг мой “внутренний мир” в какой-то момент исчезнет, а потом — вновь возникнет, я этого даже не должен заметить, — если при этом останутся неизменными нейронные процессы в моем мозге. Ведь если нервные процессы не изменились, то не может измениться и мой самоотчет. Следовательно, я и не могу сообщить кому-либо что “все переживания исчезли или изменились”. Но я и сам не смогу дать себе отчет в этом событии (хотя и являюсь этим самым исчезнувшим “внутренним миром”) и, следовательно, не могу знать о нем — т.к. мое осознанное знание о чем-то всегда предполагает возможность сообщить о его содержании какому-либо другому субъекту.
Получается, что если возможно существование “зомби”, то я даже не могу достоверно знать: существую я в данный момент времени или же не существую!
Исключить такое парадоксальное положение дел возможно только в том случае, если имеет место сущностная связь между функцией и феноменологией человеческого сознания. Т. е. мы должны постулировать, что психические функции не возможны без соответствующих субъективных “переживаний”, а переживания не возможны без соответствующих психических функций. Только в этом случае наличие осознанного, разумного поведения гарантирует существование соответствующего “внутреннего мира”. Отметим, что субъективно существование “внутреннего мира” представляется чем-то совершенно несомненным. Эта интуитивная самоочевидность существования “внутреннего мира” (если она не иллюзорна) — есть прямое указание на сущностную связь функции и феноменологии.
Сущностный характер связи феноменологии и функции сознания можно обосновать, также, и другим способом. О существовании внутреннего мира мы знаем лишь через посредство рефлексии. Рефлексия — это вполне определенная психическая функция, обеспечивающая нашу способность описывать свой собственный “внутренний мир”. Все это означает, что как-то проявлять себя через посредство рефлексии может лишь то, что само по себе также обладает функциональной природой, т. е. то, что способно как-то “действовать” и тем самым влиять на эту рефлексивную функцию. Мы не должны, однако, примысливать к действию также и “действующего” — это операция не законна, поскольку “действующий” кроме как через действие проявить себя никак не может и, следовательно, знать “действующего” как что-то отличное от его “действия” мы не можем. Поэтому, функциональная, деятельная природа “внутреннего мира”, по сути, означает, что “внутренний мир” — это и есть некая “функция” или “действие”.
Именно такого рода соображения (см.:[147]), указывающие на сущностную связь “феноменального” и “функционального” в сознании, и породили т. н. “функциональный подход” к решению психофизической проблемы, который обычно выражают формулой: “сознание есть функция мозга”. Эту формулу нужно понимать так: сознание — это ни в коем случае не само “вещество” мозга, а лишь “функция” (действие) этого вещества, причем функция, взятая как бы в “чистом виде” — рассматриваемая совершенно независимо от способа ее физической реализации (т. е. безразлично, в каком субстрате она осуществляется, какие виды энергии при этом используются, какие используются алгоритмы исполнения этой функции и т. д.).
Сторонники “функционального подхода” ссылаются при этом на так называемый “принцип инвариантности функции по отношению к субстратной основе” [64, 65]: одна и та же функция (т. е. одно и то же функциональное отношение между “входом” и “выходом”) может осуществляться самыми различными способами, в самых разных субстратах, с использованием самых разных видов энергии и алгоритмов). Отсюда делается вывод, что, поскольку сознание есть функция мозга как целого, то отдельные составляющие этой функции, а, следовательно, и весь “субстратный” (нейрональный) уровень организации сознания, никак не представлены на уровне субъективных явлений, “полностью элиминированы для субъекта” [65]. (Именно по этой причине, якобы, мы и не “ощущаем” наши собственные мозговые процессы). Наши знания о собственном “внутреннем мире” здесь вполне достоверны, поскольку наличие соответствующего поведения (включая самоотчет), само по себе (за счет сущностного тождества функции и феноменологии) гарантирует существование субъективных явлений. Однако эти выводы не бесспорны.
Возражение здесь, прежде всего, вызывает жесткое противопоставление функции и субстрата. С нашей точки зрения всякая вещь может исчерпывающим образом мыслиться как совокупность ее актуальных и потенциальных действий (или функций) и нет никакой необходимости примысливать к этим функциям еще какой-то “субстрат”. Следовательно, когда сторонники функционализма говорят об инвариантности функции по отношению к субстрату, то, фактически, они лишь выделяют некую группу функций (действий, свойств), присущих данной вещи, и противопоставляют ее всем другим функциям этой вещи. Причем это выделение осуществляется преимущественно на основе некоторых чисто человеческих, субъективных представлений о том, для чего эта вещь предназначена, какова цель ее функционирования и т. д.
Например, мы можем определить функцию компьютера как “способность производить вычисления и логические операции”. Но реально компьютер есть полифункциональная система. Помимо того, что он осуществляет вычисления, он давит на стол, нагревает воздух, оказывает сопротивление попыткам его сдвинуть с места и т. д. Определяя функцию компьютера как “способность вычислять”, мы тем самым выделяем две группы событий, связанных с компьютером, и определяем их как “вход” и “выход” компьютера. Отношение между “входом” и “выходом” и задает то, что мы называем “функцией компьютера” (способность вычислять). Если, однако, мы переопределим “вход” и “выход”, т. е. выберем в качестве “входов” и “выходов” другие совокупности событий (например, будем в качестве “выхода” рассматривать колебания тока на выходе какой-либо микросхемы) — то “функция компьютера” существенным образом изменится, хотя физически компьютер останется совершенно неизменным.
Этот пример показывает, что “функция” той или иной вещи — есть нечто весьма условное, и существует она как что-то самостоятельное, отдельное скорее в голове воспринимающей эту вещь человека, чем в самой этой вещи. Ясно, что если мы выбираем и выделяем некую избранную “деятельность” предмета как его функцию, то этот наш выбор отнюдь не создает сам по себе какой-либо объективной “отдельности” или “обособленности” этой деятельности от всех других возможных функций, свойств и способов действия данного предмета.
Следовательно, у нас нет и никаких оснований как-то обособлять психические функции от их предполагаемого “нейрофизиологического субстрата”, как-то противопоставлять эти функции данному “субстрату”. Кроме того, и сама “вещь” как некая целостная единица — существует по большей части в нашем воображении. Ведь мы членим мир на отдельные “вещи”, опять-таки, преимущественно исходя из наших чисто человеческих, субъективных представлений, т. е. исходя из соображений удобства, осмысленности или целесообразности того или иного расчленения. Но мир отнюдь не должен соответствовать всему тому, что мы о нем думаем. Но если “вещь” — как целостная единица — есть нечто условное, то и “функция вещи” — тоже есть результат некоего соглашения, нечто условное. Бессмысленно представлять себе “функцию компьютера” или “функцию телевизора” — как некую реальную, целостную в себе единицу, обладающую реальным бытием — именно в качестве интегральной функции некоторой целостной вещи. Но то же самое относится и к мозгу. Нет никаких реальных оснований мыслить мозг как некую “целостную единицу” и приписывать объективное бытие какой-то совокупности его “интегральных” функций.
Мир, конечно, может быть как-то “объективно” расчленен “в себе”, но это его объективная расчлененность вряд ли может совпасть с нашим чисто смысловым, отражающим наши человеческие интересы и потребности, членением мира на отдельные “вещи”. Чтобы мыслить мозг как единую вещь, необходимо, предварительно, открыть эти самые принципы “объективной расчлененности” мира и показать, что в соответствии с этими принципами, мозг действительно есть “сам по себе” (а не только в наших представлениях) нечто целостное и, следовательно, ему можно приписать некоторую единую интегральную функцию.
Далее, есть веские основания полагать, что “субстратные свойства”, т. е. тот способ, с помощью которого мозг осуществляет психические функции, отнюдь не элиминирован для субъекта. Он (этот способ) непосредственно представлен в наших переживаниях и находит отражение в рефлексивном самоотчете. Действительно, в моем самоотчете присутствует, например, информация о том, что я вижу цвета. Если я стою на позициях репрезентативной теории восприятия, то я должен признать, что цвет — это не свойство “самих вещей”, а лишь способ кодирования в моем сознании информации о длине воспринимаемых мною электромагнитных волн. Следовательно, знание о цвете — есть на самом деле знание о способе кодирования информации в моем сознании. Если сознание — есть функция мозга и ничего более, то это означает, что это знание о цвете является, вместе с тем, знанием о том каким образом мозг обрабатывает сенсорную информацию.
Возникает вопрос: как я могу знать, как мой мозг обрабатывает сенсорную информацию, если я никогда собственный мозг не видел, не изучал его и даже не уверен полностью, что он вообще у меня имеется (может быть у меня в голове компьютер или аквариум с рыбками — я это не проверял)? Нужно подчеркнуть, что чисто субъективно это знание об использовании цвета — как способа кодирования информации, представляется абсолютно достоверным: я не могу усомниться в том, что вижу красное именно как красное, синее — как синее и т. д. Однако если вслед за функционалистами предположить, что функция моей психики инвариантна по отношению к субстратной основе, то следует допустить возможность существование “устройства”, физически существенным образом отличного от мозга (например, состоящего из кремневых микросхем), но функционирующего (на уровне “вход” — “выход”) в точности так же, как мой мозг.
Тогда окажется, что мое осознанное суждение “я вижу цвет” — не является достоверным, т. е. оно на самом деле не доказывает, что я действительно вижу какие-либо цвета. Ведь в точности такое же суждение будет генерировать и “искусственный” мозг, о котором я могу заранее знать, что никаких цветов для кодирования зрительной информации он не использует. Таким образом, чтобы убедиться, что я действительно способен видеть цвета, я должен, предварительно, установить, что у меня в голове действительно находится мозг, а не функционально эквивалентный ему компьютер.
Однако на самом деле я совершенно достоверно знаю, что вижу цвет и знаю это без всякого заглядывания в собственную черепную коробку! Парадокс здесь именно в том, что я, не вскрывая череп, не исследуя собственный мозг, даже не зная, возможно, о его существовании, могу, тем не менее, совершенно достоверно судить о том, каким образом этот самый мозг обрабатывает зрительную информацию. Как это возможно, если реально мне известна лишь только “макрофункция” моего сознания (т. е. интегральное отношение: “вход” — “выход”)?
Это возможно, очевидно, лишь в том случае, если описанная выше ситуация “подмены” естественного мозга искусственным — принципиально не возможна. Т. е. если существует лишь один единственный способ реализации функции сознания, — а именно тот, который используется в человеческом мозге.
Только в этом случае устраняется дуализм “субстрата” и “функции”, “микрофункций” и “макрофункции” и, таким образом, всякое высказывание о функции и феноменальном содержании сознания — окажется одновременно и высказывание о способе осуществления этой функции и, соответственно, о способе “производства” данного феноменального содержания.
Это условие необходимо, но не достаточно для того, чтобы возможно было признать суждения типа: “я вижу цвет” абсолютно достоверными. Для этого необходимо не только эмпирически удостовериться, что такая “подмена” реально не возможна, но мне, напротив, уже априори должно быть известно, что она не возможна в принципе.
Это, по существу, означает, что мне изначально известна некая априорная информация об устройстве Вселенной. В частности, мне заранее известно, что вообще в этой Вселенной возможно, а что не возможно. Я могу располагать такой информацией, очевидно, только в том случае, если Вселенная существует не только как нечто “внешнее” по отношению к моему сознанию, но, напротив, существует и “внутри меня”, внутри моего “Я” — а это условие, как мы помним, и есть исходный пункт нашей теории сознания.
Невозможность отрыва функции и феноменологии сознания от “субстрата” можно продемонстрировать и другим способом. Мы имеем в виду здесь широко известный аргумент “китайской комнаты” Дж. Серла [184].
Предположим, что мы создали систему “искусственного интеллекта”, т. е. некое алгоритмическое устройство, которое обладает такими же функциональными возможностями, что и человеческий мозг. Это устройство будет вести себя так, как если бы оно, подобно человеку, воспринимало окружающий мир, чувствовало, мыслило и т. д. Спрашивается: будет ли это устройство на самом деле что-либо воспринимать (т. е. буквально видеть, слышать и т. д.), чувствовать, мыслить или же оно будет лишь имитировать эти психические процессы и на самом деле никакими субъективными переживаниями (адекватными ситуации, в которой оно находится) не обладает?
С точки зрения последовательного функционализма, наличие определенной макрофункции, тождественной макрофункции человеческого мозга, уже само по себе гарантирует существование “внутреннего мира” и всех его субъективных составляющих — независимо от того, каким образом эта функция осуществляется (поскольку сознание, с этой точки зрения, — это и есть функция, взятая “в чистом виде”, т. е. рассматриваемая безотносительно к способу ее субстратной реализации). Однако легко с помощью мысленного эксперимента показать, что это заключение ошибочно.
Для того чтобы понять, что будет “чувствовать” “искусственный мозг”, работающий в соответствие с некоторым алгоритмом, необходимо самому стать на время таким “мозгом”. Только тогда я смогу установить каково содержание его “внутреннего мира”, выяснить чувствует ли он что-либо, понимает что-то или же лишь имитирует наличие чувствования и понимания. Если “искусственный мозг” — это алгоритмическое устройство (т. е. некий “компьютер”), то такая “подстановка” собственного сознания на место компьютера — вполне возможна.
Если компьютер способен имитировать работу человеческой психики, то и человек, способен, в свою очередь, имитировать поведение компьютера, имитирующего ту или иную психическую функцию.
Предположим, что компьютер выполняет алгоритм, обеспечивающий категориальное распознавание образов или же обеспечивающий адекватное понимание китайского языка. Обработка информации в обоих случаях сводится к чисто формальному манипулированию символами (например, двоичными кодами) по жестко заданной инструкции. В результате “входная” последовательность символов (кодирующее распознаваемый предмет или фразу китайского языка) перерабатывается в некоторую “выходную” последовательность (которая кодирует, соответственно, либо категорию, к которой принадлежит изображенный предмет, или же осмысленный ответ на китайскую фразу (тоже на китайском языке)). Я могу имитировать функцию этого компьютера просто выполняя соответствующую программу “вручную”, т. е. осуществляя все необходимые преобразования символов, следуя заданной инструкции (алгоритму).
Ясно, что в процессе исполнения алгоритма распознавания образов я никакие “образы”, соответствующие распознаваемому предмету, не увижу — я буду видеть лишь те символы (двоичные коды), с которыми я непосредственно работаю. В случае китайского языка — я могу выдать осмысленный ответ на заданный по-китайски вопрос, не понимая при этом ни слова по-китайски и, даже, возможно, не догадываясь чем конкретно я занимаюсь, какую конкретно функцию осуществляю. Т. е. я буду лишь имитировать видение и понимание, не видя то, что я должен в этой ситуации видеть, и не понимая то, что я должен понимать. Но, в таком случае, и микросхема, которая способна исполнить тот же самый алгоритм, в этой ситуации ничего на самом деле не будет “видеть” и ничего не будет “понимать”, а будет лишь чисто механически имитировать данные психические функции. Она просто будет манипулировать электрическими сигналами по определенным правилам — и нет никаких оснований полагать, что эти электрические процессы могут привести к каким-либо “переживаниям”, адекватным решаемой задаче. (Да и с позиций здравого смысла весьма сложно поверить, что “вычисления” сами по себе, лишь в силу их сложности, способны породить какие-либо ощущения (например, чувство боли, видение цвета, чувство удовольствия и т.п.) или способны обеспечить действительное понимание обрабатываемой информации).
Таким образом, вопреки мнению функционалистов, наличие “макрофункции”, тождественной “макрофункции” человеческого мозга, отнюдь не гарантирует существование какого-либо “человекоподобного” сознания или, точнее говоря, не гарантирует, что устройство, реализующее эту “макрофункцию”, будет чувствовать и переживать то же самое, что и человек в подобных ситуациях. Это означает, что “внутренний мир” определяется не только “макрофункцией”, но также зависит и от способа физического осуществления этой “макрофункции”, т. е. зависит от того, в каком субстрате и каким способом осуществляется данная функция. Но это означает, что “субстрат” не элиминирован для субъекта, а напротив, непосредственно представлен на уровне “феноменально данного”, переживаемого субъектом.
Отсюда следует, что отмеченное выше сущностное тождество функционального и феноменального следует понимать не как независимость сознания от конкретного характера физических, химических и физиологических процессов в мозге, а следует, напротив, понимать как тождество функции и субстрата, как неразрывное единство функции сознания и способа ее реализации.
По существу это означает, что существует лишь один-единственный способ осуществления функции сознания и, следовательно, что принцип “инвариантности функции по отношению к субстратной основе” в случае человеческого сознания не выполняется. Но последнее возможно лишь в том случае, если описанная выше ситуация замены мозга функционально эквивалентным ему компьютером не возможна, т. е., иными словами, если невозможна алгоритмическая имитация функций человеческого сознания. Ведь если существует “алгоритм сознания”, то, в соответствие с тезисом Черча [171], этот алгоритм принципиально выполним любым универсальным вычислительным устройством (подобным, например, “машине Тьюринга”) — независимо от конкретной его физической конструкции. Иными словами, мы должны признать, что функция сознания “алгоритмически невычислима”.
Такой же вывод об алгоритмической невычислимости функции человеческого сознания, исходя из совершенно других соображений, сделал Р. Пенроуз [148, 326, 327]. Пенроуз опирается на известную теорему К. Геделя о неполноте формальных систем, из которой, по мнению Пенроуза (а также ряда других исследователей [135, 313], вытекает принципиальное различие между человеческим мышлением и любой, сколь угодно сложно устроенной, системой “искусственного интеллекта”.
Теорема Геделя утверждает, что для любой достаточно богатой по своим выразительным возможностям непротиворечивой формальной системы (исчисления, алгоритмической системы и т.п.), можно построить предложение (используя язык, принятый в данной формальной системе), которое в рамках заданного формализма будет неразрешимым (т. е. недоказуемым и неопровержимым), но, тем не менее, содержательно истинным. (Такие предложения получили название “геделевских предложений”).
Конечно, можно сделать любое геделевское предложение разрешимым, просто введя данное предложение в число аксиом формальной системы. Но тогда можно построить другое неразрешимое предложение и т. д. до бесконечности. Таким образом, оказывается невозможным создать формальную систему, обладающую достаточно большими выразительными возможностями, которая одновременно удовлетворяла бы свойствам полноты (т. е. доказывала бы все содержательно истинные высказывания) и непротиворечивости (т. е. не доказывала бы некоторые высказывания вместе с их отрицанием).
Поскольку человеческий интеллект способен распознавать содержательную истинность любых геделевских предложений, формулируемых в рамках любых формальных систем, то мы можем сделать вывод, что человек обладает большей (причем, фактически, бесконечно большей) интеллектуальной мощностью чем любая, сколь угодно сложная и содержательно богатая формальная система. Поскольку алгоритмическая система — есть разновидность формальной системы, то отсюда следует принципиальная невозможность алгоритмической имитации функции человеческого интеллекта, т. е. “алгоритмическая невычислимость” функции сознания.
С нашей точки зрения это свойство “алгоритмической невычислимости” можно рассматривать как своего рода “функциональный коррелят” той самой “укорененности” индивидуального “Я” человека в Абсолюте, о которой мы писали в предыдущих разделах работы (см. также нашу работу “Геделевский аргумент” [74]). Действительно, наличие во мне Абсолюта (ВСЕГО) предполагает актуальную бесконечность содержания моего сознания. Если эта “бесконечное начало” во мне как-то себя функционально проявляет, то сам способ этого проявления, именно в силу содержательной неисчерпаемости Абсолюта, не может быть описан с помощью какого-либо конечного списка инструкций или предписаний. Т. е. проявление Абсолюта в составе физического мира не поддается алгоритмизации. Кроме того, сама природа мышления такова, что оно не допускает полной и исчерпывающей спецификации (как мы отмечали в 3 главе).
Ниже мы еще раз вернемся к этой идее и рассмотрим ее подробнее. Пока же лишь отметим, что “алгоритмическая невычислимость” функции сознания, если она действительно имеет место, полностью закрывает возможность истолковать функцию сознания как функцию какой-либо нейрональной сети. Функция сети, состоящей из любого количества “нейроподобных” элементов, очевидно, поддается алгоритмической имитации и, таким образом, осуществлять какие-либо “невычислимые функции” нейрональная сеть не может. Следовательно, если гипотеза “невычислимости” верна, то функции сознания, по крайней мере отчасти, должны осуществляться какими-то особыми, неизвестными нам механизмами, которые как раз и ответственны за возникновение этого особого свойства “невычислимости”.
Продолжим критический анализ “функционализма”. Важной составляющей функционального подхода является так называемый “эмерджентизм”, т. е. концепция, согласно которой сознание есть не просто “функция мозга”, но есть “высокоуровневая” (системная, эмерджентная) функция, т. е. функция, которая возникает лишь на определенном уровне организации — как продукт сложного взаимодействия элементов (атомов, молекул, нейронов), которые сами по себе, взятые в отдельности, никакими “психическими” свойствами не обладают [64, 196].
Сознание (рассматриваемое не только с функциональной точки зрения, но и как “внутренний мир”) внезапно (эмерждентно) возникает в результате взаимодействия большого числа элементов, лишенных всяких психических (ментальных) свойств, — примерно таким же образом, как, например, способность показывать телепрограммы “внезапно” возникает в результате специфической организации взаимодействий деталей телевизора, несмотря на то, что каждая из деталей в отдельности этой способностью не обладает. Аналогичным образом, способность катиться по ровной поверхности “эмерджентно” возникает в результате соединения элементов колеса, которые по отдельности катиться не способны.
Как нам представляется, “эмерджентизм” совершенно несостоятелен как теория, с помощью которой можно было бы объяснить возникновение сознания. Реально никакого объяснения возникновения “субъективности” или “внутреннего мира” здесь мы не находим. Создается лишь видимость объяснения, основанная на сомнительных аналогиях. Действительно, каким образом усложнение нейрональной сети может привести к возникновению каких-либо новых “ментальных” свойств, если изначально элементы этой сети были вообще лишены всякой “ментальности”? Усложняя нейрональную сеть, мы будем усложнять ее поведение, ее функцию. Но откуда же возьмутся ощущения, образы, представления, смыслы — если изначально ничего подобного в нервных элементах не присутствовало? Ясно, что никакой логической связи между сколь угодно сложным поведением нейрональной сети и “ментальными” (субъективными) явлениями не существует. И, следовательно, перейти логически корректно от первого ко второму невозможно. Здесь имеет место ошибка, именуемая в логике “разрыв в объяснении”, — когда в цепочке умозаключений оказывается пропущенным какое-либо важное звено, без которого нужный нам вывод получен быть не может.
“Эмерджентизм” неприемлем, т.о., просто потому, что он не дает никакого внятного ответа на вопрос: каким образом возникают “субъективные” явления и, следовательно, “эмерджентизм” не является теорией, объясняющей возникновение сознания.
Конечно же, фактически связь (причем связь “сущностная”, предполагающая тождество функции и феноменологии) между “внутренним миром” и “функцией сознания”, несомненно, существует. (В третьей главе мы показали, что это единство феноменологии и функции сознания может быть истолковано как тождественность функции сознания динамике той части феноменального содержания сознания, которая соответствует “восприятию наших собственных действий“. Иными словами, функция сознания заключается исключительно в выборе (селекции) порядка актуализации тех содержаний смыслового поля, которые отражают осознанно принятые субъектом, “свободные“ поведенческие решения). В данном случае мы лишь подчеркиваем, что эту связь феноменологии и функции невозможно объяснить исходя только лишь из факта усложнения организации и возникновения новых функциональных свойств. Ведь такое объяснение упускает самое важное: вопрос о природе “субъективного” как такового.
Мы можем согласиться с тем, что в некотором смысле “эмерджентные свойства”, несомненно, существуют. Но примеры, которые обычно приводят в подтверждение их реальности, на самом деле показывают, что речь тут идет лишь об усложнении организации уже имеющихся функций или свойств, но не о рождении чего-то принципиально нового, небывалого. Точнее говоря, эффект “рождения нового свойства” иллюзорен и связан с различием значимости (или “ценности”) тех или иных сочетаний свойств или функций для человека. Так способность показывать телепрограммы — есть, по существу, лишь способность генерировать очень сложно структурированные потоки электромагнитного излучения. Но излучать электромагнитные волны в той или иной степени способны любые материальные объекты. Речь, таким образом, идет не о возникновении нового, а о реорганизации уже имеющихся свойств таким образом, чтобы было возможно удовлетворять потребность человека передавать визуальную информацию на большие расстояния.
Все эти рассуждения показывают, что каким-то образом “вывести” субъективные психические явления из чего-то такого, что изначально никакой субъективностью, чувственностью, осмысленностью и т.п. не обладало — принципиально не возможно. “Субъективное”, “ментальное” — есть, следовательно, некое первичное свойство реальности не из чего не выводимое и ничем не объяснимое. С этой точки зрения гораздо более приемлемым представляется т. н. “панпсихизм”, т. е. учение о всеобщей (хотя бы и зачаточной, элементарной) одушевленности материи. Следовательно, истоки сознания нужно искать не в усложнении организации функций мозга, а нужно искать на уровне первичных физических свойств материальных объектов.
То, что мы не воспринимаем в составе физического мира каких-либо “ментальных” сущностей (например, ощущений) можно объяснить с позиций репрезентативной теории чувственного восприятия. Если мы непосредственно видим не “сами вещи”, а “образы вещей” (их репрезентации в нашем сознании), то исходя из этого мы, с помощью достаточно простых рассуждений, с легкостью приходим к заключению, что образы не должны “копировать” объекты, не должны “состоять” из тех же самых “качеств” (включая и пространственно-временные качества), что и реальные вещи. Для того, чтобы успешно действовать в мире, достаточно лишь, чтобы наши образы и соответствующие им “вещи” находились в отношении изоморфизма (взаимно однозначного соответствия) — при условии, что характер заданного соответствия не меняется во времени. Это означает, что образы могут быть совершенно “не похожи” на “сами вещи” (с чувственной точки зрения). То “сходство” между образами и объектами, которое реально существует, имеет чисто абстрактный характер — это сходство абстрактных структур, но не сходство качеств, не сходство той формы представленности, в которой эти абстрактные структуры существуют.
Этот подход позволяет разрешить парадокс, связанный с репрезентативной теорией восприятия. Эта теория утверждает, что то, что мы непосредственно видим (т. е. “образы”) — есть лишь состояния нашего собственного сознания. Если сознание в том или ином смысле “производится” мозгом, то эти самые “состояния сознания” нужно понимать как состояния какой-то части вещества мозга. Мы знаем, что восприятие сопряжено с модификацией нейрональной активности в мозге, но, мы явно не находим в мозге каких-либо “образов”: если я вижу зеленый стол, то никакого маленького зеленого столика в мозге я обнаружить не смогу.
Репрезентативная теория восприятия объясняет это так: мы видим не то, что есть “на самом деле”. Наше восприятие столь сильно искажает реальный мир, что вместо зеленого стола (который действительно есть “у меня в голове”) я вижу мозг, его извилины, серое и белое вещество и т. д.
С этой точки зрения сознание и материя — это не две различные сущности, а две стороны единой, духовной по своей природе, субстанции. Материя — это просто “явленность духовного вовне”, т. е. есть результат восприятие чужого “Я”, чужого сознания. Это и есть “чужое Я”, как оно “проецируется” в мое сознание. Дух же — есть материя, как она существует “сама по себе” — в своем собственном внутреннем естестве.
Мы описали так называемый “двухаспектный подход” к решению психофизической проблемы, который в классической своей форме был предложен Г. Фехнером еще в середине 19 века (см.: [237]) и в настоящее время также поддерживается некоторыми философами [322}.
Корректное обоснование “двухаспектного подхода” требует, однако, не только объяснения: каким образом материя может быть тождественна сознанию, но, также, требует выявить реальный параллелизм, по крайней мере, наиболее общих свойств сознания и объектов физического мира. Действительно, если физическое — это лишь “проекция вовне” того, что само по себе есть нечто субъективное (ментальное), то, очевидно, всякое физическое свойство должно иметь свой “ментальный” прообраз, т. е., иными словами, должен существовать строгий параллелизм физических и психических свойств.
Заметим, что “двухаспектный подход” не обязательно тождественен крайней форме панпсихизма, когда вся материя наделяется такими психическими функциями как память, мышление, восприятие и т. д. Речь, как правило, идет лишь о том, что в материи содержатся некие исходные “субъективные элементы” (такие, как модально специфические ощущения и т.п.), из которых при должной организации могут возникать достаточно сложные психические явления. (Эта концепция получила название “панэкспириентализм”).
Учитывая это, нам достаточно будет лишь сопоставить самую общую “формальную” структуру и самые общие онтологические свойства сознания и физических объектов и продемонстрировать их изоморфность, а также показать, что при определенных условиях, одни лишь физические свойства материи способны обеспечить возникновение сложных функциональных систем, подобных человеческому мозгу.
В ряде работ мы показали, что изоморфизм физического и субъективного отчасти существует на уровне квантово-механического описания материальных систем [75, 76, 77]. Мы не будем здесь подробно описывать результаты наших прежних исследований. Выделим лишь самое главное.
Как мы выяснили ранее, к числу наиболее фундаментальных онтологических свойств человеческого сознания следует отнести: целостность (сознание неразложимо на какие-либо изолированные друг от друга элементы, независимые “сферы” и т.п.), временную нелокальность (ограниченную малыми временными интервалами в чувственной сфере и неограниченную — в сфере смыслов), наличие в сознании актуального и потенциального содержания (чувственности и смысла), а также “качественность” чувственных феноменов и “бескачественность” смыслов.
По крайней мере, три из этих свойств имеют явные аналоги на уровне квантово-механического описания материи. Во-первых, достаточно четкая аналогия прослеживается между актуально-потенциальной структурой сознания и актуально-потенциальной структурой бытия квантовых объектов. Последнее проявляется в дуализме квантовых состояний (которые интерпретируются как “чистые потенции”) и квантовых “наблюдаемых”, которые можно истолковать как результат актуализации этих “потенций” (в акте измерения). Поскольку смысл, как мы установили, можно истолковать как “чистую потенциальность”, то естественно сопоставить смысловое измерение субъективного с квантовыми состояниями до измерения, в то время как чувственность (как совокупность актуальных “чувственных событий”) естественно соотнести с процессами актуализации квантовых потенций в процессе измерения.
Особая роль измерительной процедуры в квантовой физике позволяет, также, истолковать с позиций квантовой теории целостность и временную нелокальность сознания. Согласно принципам квантовой механики измерение не просто выявляет предсуществующие свойства квантового объекта, но фактически создает их в момент измерения. Причем характер и пространственно-временные масштабы “создаваемых” в акте измерения свойств существенно зависят от параметров измерительной процедуры. Так, отсутствие субъективно переживаемой микроскопической “зернистости” материи мозга и, также, отсутствие переживания динамики физических состояний мозга на микроинтервалах времени, можно объяснить квантовой природой “материального субстрата” сознания и особенностями осуществляемой над ним измерительной процедуры. Измерения осуществляются таким образом, что, во-первых, этот “материальный субстрат” воспринимается по результатам этих измерений как нечто “целостное”, несоставленное из частей, и, во вторых, измерения не дают никакой информации о физических процессах на микроинтервалах времени (за счет низкой временной и пространственной разрешающей способности измерительной процедуры). Поскольку именно измерительная процедура творит “актуально переживаемое”, мы должны признать, что то, что “ненаблюдаемо” — не обладает актуальным бытием. Т. е. не просто “не обнаруживается”, но и действительно не существует в какой-либо актуальной (пространственно-временной, событийной) форме.
Ссылаясь на особенности квантово-механического описания материи, можно попытаться, также, ответить на вопрос: почему материя с физической точки зрения “бескачественна” (Декарт, как известно, определял ее как “чистую протяженность”), тогда как с “внутренней” точки зрения (как субъективное), она, напротив, проявляет качественное разнообразие (имеются в виду модально специфические “чувственные качества”).
Здесь нужно учитывать, что в квантовом случае “качественная однородность” (бескачественность) материи проявляется в том, что уравнения квантовой механики содержат в себе минимум качественно разнородных параметров (пространство, время, масса) — с помощью которых, конечно, невозможно объяснить огромное разнообразие субъективных чувственных качеств. Но поскольку эти уравнения описывают динамику квантовых состояний, они тем самым описывают лишь динамику “чистых потенций”, т. е., в случае мозга — лишь смысловую составляющую сознания, которая также “бескачественна” и может быть определена как “чистая информация”, лишенная какой-либо формы представленности. Только актуальная, “чувственная” составляющая сознания обладает “качествами”. Но эту составляющую мы связываем с измерительной процедурой, которая как раз не описывается уравнением Шредингера или его аналогами (как это в свое время показал И. фон Нейман) и, вероятно, вообще выпадает из парадигмы “математизированного естествознания”, сводящей все различия к количественным. Т.о. “бескачественность” физического описания реальности можно объяснить тем, что физика “схватывает” лишь бескачественную, (“смысловую”, “потенциальную”) составляющую бытия, но не дает описания того единственного процесса (измерения, актуализации, редукции волновой функции), который, видимо, как раз и отвечает за возникновение качественности. Именно “качественность” актуального бытия, возможно, и является препятствием для его математического описания — ибо математика применима в полной мере лишь к качественно однородным субстратам.
Итак, был выявлен определенный параллелизм квантового и субъективного. Это позволяет высказать предположение, что в основе человеческого сознания лежат какие-то пока неизвестные нам “квантовые механизмы”. Недавнее изобретение “квантовых компьютеров” — вычислительных устройств, действующих на основе законов квантовой механики и способных гораздо более эффективно, чем любые классические компьютеры, решать некоторые математические задачи (факторизация больших чисел, поиск информации в неупорядоченных базах данных и др.) [28, 88, 292, 340] — позволяет надеяться, что гипотеза квантовой природы сознания позволит не только объяснить с физической точки зрения те или иные “формальные” свойства сознания, но и объяснить некоторые его функциональные свойства (см. об этом нашу работу “Сознание и квантовые компьютеры” [76]). В частности, можно было бы надеяться, что эта гипотеза позволит объяснить ту огромную “вычислительную мощность” человеческой психики, которая дает возможность человеку эффективно обрабатывать огромные массивы сенсорной информации и позволяют ему успешно конкурировать во многих областях с классическими компьютерами.
В последние годы, однако, наш энтузиазм в отношении гипотезы “квантового сознания” существенно уменьшился. Перечислим основные причины такого скепсиса:
1. Первоначальный оптимизм в отношении возможностей квантовых компьютеров оказался существенным образом преувеличенным. По всей видимости, квантовые компьютеры позволят экспоненциально ускорять решение лишь некоторых, весьма специфических математических задач (таких как факторизация больших чисел), но не дают большого выигрыша, когда речь идет о многих задачах, характерных для проблематики искусственного интеллекта.
2. Даже если мы установим, что в основе сознания лежит некий “квантовый механизм”, подобный, может быть, квантовому компьютеру, мы, тем не менее, бессильны будем объяснить, каким образом этот механизм возник, каково его происхождение. В последнее время становится все более очевидным тот кризис, который переживает дарвиновское эволюционное учение. Попытки объяснить видообразование, а также зарождение жизни на Земле, с позиций синергетики или линейной неравновесной термодинамики, пока тоже не дают достаточно убедительных результатов [36]. (Эти вопросы мы подробнее рассмотрим в следующем параграфе). Фактически нужно признать, что мы не имеем убедительного научного объяснения возникновения жизни и происхождения видов живых организмов и, следовательно, не способны научно объяснить происхождение человека, возникновение человеческого мозга и человеческого сознания. Ясно, что теория сознания должна не только объяснить, как устроено развитое человеческое сознание, какие “механизмы” лежат в его основе, но и должна объяснить, как возникает сознание, как формируются его предполагаемые “механизмы”. Это важно еще и потому, что вполне вероятно, что те самые “творческие силы”, которые породили сознание, в той или иной форме продолжают действовать и в уже сформированном сознании, обуславливая его способность к саморазвитию, способность к творческой деятельности. И если мы не способны натуралистически объяснить происхождение сознания, то, в таком случае, мы не сможем также исчерпывающим образом натуралистически объяснить и его строение и функционирование.
3. Гипотеза “квантового сознания” в представленном здесь виде не способна, видимо, в полном объеме объяснить так называемые “явления психизма” (телепатия, телекинез, ясновидение, медиумизм и др.) реальность существования которых становится все более очевидной [8]. (Заметим, однако, что наиболее интересные, хотя и не бесспорные, попытки объяснения этих явлений как раз были сделаны с позиций квантовой физики [8]).
4. С позиций квантовой физики весьма сложно истолковать такое фундаментальное свойство индивидуального сознания, как его “укорененность” в Абсолютном бытии. Как уже отмечалось, функциональным коррелятом такой укорененности в Абсолюте можно считать алгоритмическую невычислимость функции сознания, т. е. невозможность исчерпывающего описания функции сознания с помощью какого-либо конечного, сколь угодно обширного и сложного, набора инструкций или предписаний. С этой точки зрения квантовый компьютер не является удачной моделью сознания. В самом деле, квантовый компьютер — это, по существу, машина Тьюринга, работающая на основе принципов квантовой механики (в частности, использующая квантовый принцип суперпозиции состояний). Квантовый компьютер может превосходить классический компьютер в быстродействии, но он, тем не менее, остается алгоритмическим устройством и задачи, неразрешимые для машины Тьюринга (т. н. “алгоритмически неразрешимые проблемы”), остаются неразрешимыми и для квантового компьютера. Как известно, Р. Пенроуз предпринял попытку объяснить свойство алгоритмической невычислимости функции сознания с позиций квантовой механики [295]. По его мнению “акты сознания” соответствуют квантово-механическим процессам редукции волновой функции. Этот выбор был продиктован следующими соображениями. Физическая реальность, как она нам известна, подчинена жестким, единым для всех физических объектов законам. Эти законы — суть алгоритмы, которым подчинены явления физического мира. Следовательно, если алгоритмическая невычислимость как-то проявляет себя в физическом мире, то она может быть связана лишь с физическими процессами, выпадающими из схемы жесткого законосообразного поведения. Это могут быть лишь процессы принципиально непредсказуемые, не подчиненные целиком и полностью “общим законам”, т. е. обладающие неким “индивидуальным своеобразием”. Последнее, также, необходимо для того, чтобы обосновать физически возможность существования человеческой индивидуальности, уникальности индивидуального “Я”. Ведь в мире, где все унифицировано, где нет никакого индивидуального своеобразия (а именно так физика и описывает мир квантовых объектов) — никакие индивидуальности, очевидно, существовать не могут. Единственное известное нам явление в физическом мире, которое более-менее соответствует этим требованиям — это процесс редукции волновой функции квантовой системы в процессе измерения. Как известно, точный результат квантово-механического измерения непредсказуем (за исключением специфического случая, когда квантовая система находится в состоянии, являющимся собственным состоянием измеряемой величины). Мы можем заранее вычислить лишь вероятность обнаружить квантовую систему в том или ином конечном состоянии после завершения измерительной процедуры. Именно этот непредсказуемый (и, следовательно, неалгоритмизируемый) процесс, согласно Пенроузу, и лежит в основе сознания. Один из дополнительных доводов в пользу этого предположения — это известное положение о “роли наблюдателя” в квантово-механическом измерении [356]. Под влиянием классической работы И. фон Неймана [142], сложилось мнение, что процесс редукции волновой функции осуществляется “в сознании наблюдателя” [356] и, следовательно, квантовая механика явным образом предполагает существование человеческого сознания — как необходимого коррелята квантово-механического процесса редукции волновой функции. Но здесь возникает одно существенное затруднение. Согласно стандартной интерпретации квантовой механики, акт редукции волновой функции — это чисто случайный процесс. Но случайность — не есть синоним алгоритмической невычислимости (как ее понимает Пенроуз). Ведь алгоритмическая невычислимость должна, по мысли Пенроуза, расширять вычислительные возможности сознания, выводить функциональные возможности сознание за рамки возможностей алгоритмических систем. Сознание характеризуется, по Пенроузу, способностью “решать алгоритмически неразрешимые проблемы”. Включение же элемента случайности в вычислительный процесс — не порождает способности решать алгоритмически неразрешимые проблемы: круг задач, решаемых с помощью вероятностных машин Тьюринга, точно такой же, как и для детерминированных машин Тьюринга. Учитывая это обстоятельство, Пенроуз предположил существование особых процессов “саморедукции” [295] волновой функции, которые могут происходить в особых условиях. Пенроуз различает “саморедукцию” и “вынужденную редукцию”, т. е. редукцию, инициированную внешними воздействиями. Только саморедукция коррелятивна актам сознания и только в актах саморедукции проявляется свойство “алгоритмической невычислимости”. Процессы саморедукции, по Пенроузу, требуют особых условий — длительного сохранения когерентного макроскопического квантового состояния, что предполагает защищенность квантовой системы от внешних воздействий, которые могли бы инициировать акты вынужденной редукции. В обычных физических экспериментах, когда когерентность быстро разрушается, саморедукция не наблюдается. Это обстоятельство позволяет избежать панпсихизма — сознание обнаруживает себя лишь в особых условиях — в сложных системах, в которых обеспечивается защита от внешних возмущений. К сожалению, все это лишь гипотеза (хотя Пенроуз и пытается подвести под нее теоретическую базу, в виде идеи “квантовой гравитации”, теория которой, однако, пока еще не разработана). Никаких экспериментальных подтверждений существования процессов “саморедукции”, насколько нам известно, не существует. В разделе 5.3 мы рассмотрим несколько иной подход к истолкованию сознания с позиций квантовой физики – основанный на идеях М. Менского и Х. Эверетта. Однако, как мы увидим, этот подход отнюдь не предполагает возможности целиком объяснить сознание с физической точки зрения. Он позволяет лишь указать место сознания (как нефизической сущности) в составе квантовофизической реальности. Преимущество этого подхода видится также и в том, что он не предполагает какой-либо необходимости пересматривать существующие физические концепции и добавлять какие-то новые физические гипотезы.
5. Некоторые специфические свойства сознания крайне трудно истолковать с позиций физики. Это, прежде всего, “качественность” чувственной составляющей сознания и такое свойство психической деятельности, как целесообразность. Как уже отмечалось, физический мир сам по себе “бескачественен” и, следовательно, чувственные качества не имеют прямых физических аналогов. Мы отмечали, также, что “бескачественность” физического описания можно объяснить тем, что физика описывает лишь “потенциальный” слой бытия, соответствующий в нашем сознании смыслу. Но это не снимает вопроса о физических коррелятах качеств как таковых. В рамках существующих физических теорий это сделать, видимо, не возможно. Сам факт существования “качеств” (которые выразимы в речи и, следовательно, в некотором смысле “действуют“ в воспринимаемом нами физическом мире) указывает, таким образом, на неполноту существующей физической картины мира (которая должна, в принципе, учитывать все, что способно как-то “действовать” в физическом мире). Т.е. показывает, что физика не является “теорией всего“. Не менее сложно с физической точки зрения интерпретировать такое свойство сознания, как целесообразность. Некоторый физический аналог целесообразности можно усмотреть в известном принципе “наименьшего действия”. Но вряд ли с помощью этого принципа возможно объяснить все многообразие форм целесообразного поведения человека. Мир известных нам физических явлений — это мир “действующей” (запаздывающей) причинности и в нем нет места для целевых (опережающих) причинных связей.
6. С точки зрения современной физики невозможно объяснить такой феномен, как существование индивидуального “Я”. Субъективные феномены — это всегда “чьи-то” феномены. Они принадлежат некоторому конкретному “Я” — субъекту восприятия, мышления и деятельности. Ясно, что сама идея “Я” предполагает его единственность — каждое “Я” может существовать лишь в одном экземпляре. Никакое “размножение” или “удвоение” “Я” не возможно в принципе. “Я” абсолютно уникально. Но это означает, что индивидуальность моего “Я” невозможно объяснить исходя из особенностей “конструкции” моего тела. Ведь уникальность моего физического тела, с точки зрения современной физики, не абсолютна. Мое тело состоит из совершенно стандартных атомов, которые, с точки зрения квантовой механики, никакой уникальностью или индивидуальностью не обладают. Теоретически представляется вполне возможным установить с высокой точностью расположение всех атомов моего тела, а затем создать высокоточную (с точностью до расположения отдельных атомов) копию моего организма (в том числе и мозга). Ясно, что эта процедура в любом случае не может привести к копированию моего “Я”. Я останусь самим собой, а копия обретет свое собственное, независимое от меня “Я”. Таким образом, нужно признать, что индивидуальность “Я” не определяется известным нам физическим устройством человеческого тела.
Из всех перечисленных аргументов следует вывод, что вряд ли мы когда-нибудь сможем исчерпывающим образом объяснить сознание с позиций современной физической теории. Вместе с тем, мы ни в коем случае не отказываемся от самой идеи возможности и даже необходимости истолкования феномена сознания с физической точки зрения. Идея существования некой совершенно изолированной от физической картины мира “надфизической” (скажем, какой-то “социальной”, “культурной” или “смысловой”) реальности совершенно несостоятельна. Ведь “физическое” — это просто все то, что так или иначе способно “действовать” в физическом мире, способно включаться в цепочки причинно-следственных связей. То, что никак не действует, ни с чем физически не взаимодействует, — не может быть никаким способом обнаружено. Мы принципиально не можем высказываться о “внефизических” предметах, поскольку высказывание — это, помимо всего прочего, физический акт. То, что мы способны говорить о психических явлениях, — говорит о том, что они способны каким-то образом действовать в составе физического мира (или, по крайней мере, должна создаваться иллюзия такого действия) и, таким образом, существование психической реальности должно быть как-то учтено в физической картине мира. Как мы покажем ниже (п.5.3), квантовая теория действительно дает нам вполне определенные указания относительно того места, которое сознание занимает в составе физической реальности, но, при этом, данное обстоятельство отнюдь не делает сознание физическим объектом (поскольку, как мы только что показали, оно обладает свойствами, которые не возможно истолковать с физической точки зрения). Квантовая теория, с одной стороны, вводит сознание (наблюдателя) как необходимый элемент физической картины мира, а с другой стороны, показывает невозможность истолкования сознания только лишь с физической точки зрения. (Что, в частности, проявляется, как невозможность описать процесс квантовомеханического измерения целиком и полностью как продукт шредингеровской эволюции). Но, прежде чем перейти к обсуждению места сознания в квантовой картине мира, мы должны рассмотреть с более общих позиций перспективы решения психофизической проблемы в рамках выработанной нами антинатуралистической концепции сознания.
5.2 Перспективы решения психофизической проблемы
В этом параграфе мы попытаемся выяснить какие перспективы для решения психофизической проблемы открывает изложенная выше (гл. 1- 4) теория сознания.
Мы видели в предыдущем параграфе, что натуралистические подходы к решению психофизической проблемы (функционализм, двухаспектный подход) сталкиваются с серьезными возражениями как концептуального, так и фактического характера. Истоки трудностей, как нам представляется, — как раз и заключается в натуралистическом истолковании самого сознания (основные черты которого мы определили во Введении). Несмотря на неоспоримые успехи нейронаук, мы, тем не менее, сталкиваемся с огромными трудностями, когда пытаемся объяснить сознание как нечто производное от мозга, т. е. пытаемся истолковать его как природный феномен.
С одной стороны, мы обнаруживаем достаточно строгий параллелизм психических и физиологических явлений, который указывает на несомненную связь между мозгом и сознанием. С другой стороны, многие аспекты сознания, в особенности сам факт существования “внутреннего мира”, “сферы субъективного” — не удается объяснить “научно”, т. е. натуралистически. Создается впечатление, что натуралистический подход к объяснению сознания работает лишь до каких-то границ, за пределами которых он оказывается несостоятельным (или, по крайней мере, не достаточным).
Но именно такое положение дел и должно существовать с точки зрения предложенной нами концепции сознания. Напомним ее основные положения.
Исходным для нас является понятие Абсолютного бытия (или Абсолютного “Я”), которое мыслится как “Универсум возможного опыта”. Это совокупность всего того, что в принципе может быть дано мне (или любому другому разумному субъекту) “опытно”, т. е. в переживании. За пределами “Универсума возможного опыта” ничего нет и быть не может. Всякая трансцендентность мыслима лишь как относительная трансцендентность. Иными словами, трансцендентный предмет допустим лишь в том случае, если его трансцендентность преодолевается имманентностью, т. е. всякий трансцендентный предмет должен быть в каком-то аспекте имманентен человеческому “Я”. Всякая отдельность, обособленность — предполагает и некоторое единство, преодолевающее эту обособленность. Лишь на фоне единства эта обособленность только и может быть мыслима. Например, если я мыслю себя отдельным, обособленным, то я должен мыслить и то целое, от которого я себя отделяю. Но мыслить это целое я могу лишь в том случае, если отделен от него не до конца, остаюсь где-то в “глубине” своего “Я” связанным с этим целым. Так и любой предмет — если я способен его мыслить как что-то обособленное от меня, то он должен быть неким образом “глубинно” связан со мной, иначе никакая содержательная мысль об этом предмете (т. е. такая мысль, которая “имеет в виду” именно этот предмет, а не что-то другое) не возможна.
Индивидуальная человеческая личность (“эмпирическое Я”) — есть продукт самоограничения Абсолютного бытия. Система ограничений, которые Абсолют накладывает на себя, не только создает “эмпирическое Я”, но и, в качестве его коррелята образует то, что мы называем “природным миром”, “объективной реальностью” или “материей”. “Материя”, с этой точки зрения, — есть не что иное, как некоторая конкретная упорядоченность данного нам опыта, т. е. закономерный характер связи элементов опыта, а также есть способность этого опыта сопротивляться нашим волевым усилиям (а, следовательно, и ограничивать нашу свободу действий).
Наиболее общие и неизменные закономерности и ограничения задают фундаментальную структуру “физической реальности” — т. е. задают те общие “правила игры”, которым подчинена наша Вселенная. Для эмпирического сознания эти ограничения открываются как “законы природы”. Эти “законы природы” — не есть “отражение” универсальных свойств и взаимосвязей каких-либо “вещей в себе”. Эти законы — и есть сам “природный мир”, сама реальность как таковая. За математическими формулами физики не стоит ничего, кроме объективного смысла самих этих формул.
Более частные ограничения задают родовые свойства человека и прочих живых существ. С этой точки зрения, наше тело, наш мозг — есть как бы некие “материализованные” ограничения, накладываемые на возможный опыт конкретного эмпирического субъекта. Но эти ограничения имеют уже более частный характера, они имеют отношение лишь к опыту конкретного эмпирического “Я”. По существу, весь мир есть как бы огромное “мое тело”, но одни части этого “тела” в большей степени коррелируют с моей эмпирической личностью, а другие в меньшей. Они образуют как бы “внутреннее” и “внешнее” мое “тело”. (Следовательно, нет жесткой границы между “моим телом” и “внешним миром”. Этим объясняется, почему сознание не удается привязать к какой-либо локальной структуре внутри мозга. Сознание, по существу, связано со всем Универсумом, но с разными частями Универсума оно “коррелирует” в разной степени).
Существуют, видимо, и еще более частные ограничения, которые ответственны за специфические “индивидуальные особенности” конкретного эмпирического субъекта. В той мере, в какой субъект меняется в течение жизни, меняются и эти ограничения.
Если функционалисты сравнивают мозг с компьютером, а сознание – с введенной в него программой, то мы, напротив, должны перевернуть это отношение. С нашей точки зрения, сознание (в аспекте его тождества с Абсолютом) можно уподобить компьютеру, а весь материальный мир, включая тело и мозг, представить как некоторую определенную программу, загруженную в этот компьютер. Также как программа – есть система ограничений наложенных на изначальную универсальность функции компьютера, так и материя – есть система ограничений, накладываемых Абсолютом на самого себя, делающая его ограниченным, конкретным, “именно таким, а не иным” участненным Абсолютом (т.е. конкретным “эмпирическим Я”). Вопреки Аристотелю, не душа является формой тела, но напротив: тело – есть форма души. Именно тело оформляет, ограничивает, делает вполне определенной, конечной — универсальную, неограниченную, бесконечную саму по себе душу. Отсюда понятна жесткая зависимость эмпирической личности от тела. Также, как изменяя программу, мы произвольным образом изменяем функционирование компьютера, так и воздействуя на тело и мозг – мы можем изменять практические любые параметры работы индивидуального сознания. Но, при этом, также как программа не оказывает никакого действия на физическое устройство компьютера, так и тело никак не влияет на саму духовную субстанцию – Абсолютное “Я”. Душа не есть функция тела (скорее наоборот, тело – есть функция души) и, следовательно, разрушение тела не влечет разрушения сознания.
Согласно нашей концепции мое “эмпирическое Я” и физическая реальность соотносятся как некая выделенная “часть” Абсолютного бытия (но такая часть, в которой в определенном индивидуальном ракурсе присутствует Абсолютное бытие как целое) и та система ограничений, которая, собственно, эту “часть” выделяет, т. е. вычленяет ее из состава всеединого бытия и придает ей определенность, а также относительную обособленность, “приватность”. Отношение эмпирического “Я” и мозга, в таком случае, подобно отношению фигуры, изображенной на плоскости, и той линии, которая образует ее внешний контур. Плоская фигура и линия не тождественны, — но коррелятивно взаимосвязаны. Таким же образом “коррелятивно” связаны мозг и сознание. Сознание не тождественно мозгу, не есть часть мозга и не есть продукт мозга. Мозг также не является продуктом или частью индивидуального сознания. Мозг и эмпирическое сознание связаны коррелятивно в силу того, что порождаются единым актом самоограничения Абсолютного бытия. Тот акт, который творит эмпирическую личность, одновременно творит и коррелятивный этой личности “мир природных явлений” — как систему ограничений, делающую эту личность чем-то приватным и вполне определенным.
Правильным решением психофизической проблемы с этой точки зрения является не функционализм и не двухаспектный подход, а особая форма психофизического параллелизма. (Которая является “особой” в том смысле, что она не предполагает какого-либо фундаментального “дуализма” материальной и духовной субстанции). Такой подход как нельзя лучше соответствует реальному положению дел: мы обнаруживаем связь психического и физического, но не способны ни психическое вывести из физического, ни физическое — из психического.
Любой реальный процесс в физическом мире, с этой точки зрения, есть скоррелированное (в разной степени) изменение индивидуального сознания и материи. Поэтому сознание способно “действовать” в материальном мире, а физические акты (например, повреждения мозга) — сопровождаются “коррелятивными” изменениями функционирования сознания.
Идея коррелятивности физической реальности и человеческого сознания вполне соответствует, также, той картине реальности, которую рисует нам неклассическая (квантово-релятивистская) физика. Как уже отмечалось, согласно принципам квантовой механики конкретные наблюдаемые “события” имеют место лишь в том случае, если осуществляется “измерение”, способное эти события зафиксировать. Измерение предполагает существование субъекта-наблюдателя, который организует сам эксперимент и считывает показания с приборов. Таким образом “актуальная реальность” (поток событий) существует лишь как нечто соотносительное с наблюдателем, а, следовательно, и соотносительное с сознанием этого наблюдателя. Никакой независимой он сознания наблюдателя “событийной (актуальной) реальности” не существует. Объективный статус можно придать лишь “квантовым потенциям”. Следовательно, “объективно” (независимо от эмпирического субъекта) существует лишь “Мир возможного” (или “Универсум возможного”) — который можно отождествить с “Универсумом возможного опыта” (т. е. Абсолютом), и который лишен всякой актуальной событийности (а, следовательно, есть нечто вневременное и внепространственное). Из этого “Универсума возможного” субъект-наблюдатель “вычленяет” строго индивидуальным образом те или иные последовательности “реально произошедших” событий. (См. подробнее п.5.3).
Учет также и теории относительности, а также анализ некоторых мысленных экспериментов (“кот Шредингера”, “друг Вигнера”, “парадокс близнецов” и др.) показывает, что для разных наблюдателей последовательности “реально произошедших событий” могут существенно различаться. (Например, согласно специальной теории относительности может различаться порядок временного следования событий). Таким образом, неклассическая физика вполне подтверждает тезис Шопенгауэра “без субъекта нет объекта”. Актуальная событийная реальность, как в микромире, так и в мире околосветовых скоростей — существует лишь соотносительно с субъектом-наблюдателем, существует лишь как “внешний” коррелят эмпирической личности.
По сути, наша концепция лишь обобщает эти выводы неклассической физики на все актуальное бытие в целом. Весь событийный мир, мир подчиненный течению времени, существует лишь как “образ” в нашем сознании. Но этот “образ” имеет опору и вне сознания — в “мире потенций”. Этот “мир потенций”, рассматриваемый как целое, и образует то, что мы назвали “Абсолютом”. Само пространство и время, как мы их непосредственно переживаем (как самостоятельные, качественно отличные друг от друга сущности), как это следует из теории относительности, существуют лишь соотносительно с конкретным наблюдателем. Объективно же существует единый “пространственно-временной континуум”, который в каждом индивидуальном сознании по-разному “расщепляется” на пространственную и временную составляющие.
Только в сознании наблюдателя (как полагают Е. Вигнер, Дж. Уилер, М. Менский и др.) происходит редукция волновой функции — процесс превращения “возможного в действительное”, т. е. осуществляется выбор одной из альтернатив, описываемых “объективно” (до момента “наблюдения”) в виде линейной суперпозиции амплитуд вероятностей того или иного исхода наблюдения. Необъяснимость процесса редукции волновой функции с динамической точки зрения — есть просто следствие невыводимости сознания из материи. Заметим, что Абсолют, с нашей точки зрения, есть нечто большее, чем совокупность всех возможных “квантовых альтернатив”. Последняя совокупность включает в себя лишь множество “физически возможных событий”, т. е. событий, совместимых с законами физики. Абсолют же — это множество “мыслимых событий”, в котором “множество физически возможных событий” составляет лишь некое подмножество (поскольку помыслить мы можем и то, что физически не возможно). Этот подход позволяет нам мыслить физические законы не как фундаментальные определения самого Абсолютного бытия, а как один из частных способов самоограничения Абсолюта.
Итак, мы предлагаем мыслить отношение материи и сознания в духе параллелизма (или, правильнее сказать, “коррелятивизма”). Однако и параллелизм не дает нам исчерпывающего решения психофизической проблемы.
Человеческое сознание во всей его полноте, как мы видели, не тождественно эмпирической личности. Мое “Я” существует одновременно в двух планах: эмпирическом и надэмпирическом. Я есть “эмпирическая личность” но, одновременно, я есть и Абсолютное “Я”. Я одновременно ограничен и не ограничен, есть некая “часть” Мира и есть Мир в целом. В чувственной сфере я обнаруживаю себя внутри Мира. В сфере мышления, напротив, обнаруживаю Мир внутри себя. Этот Мир дан мне “изнутри” как глубинная основа моего сознания, как основа смыслообразования, как начало, обеспечивающее мою свободу.
Все специфически человеческое во мне — есть следствие этой моей двойственности: моей погруженности в эмпирический мир и, одновременно, моей причастности к Абсолютному бытию, трансцендирующему любую эмпирию. Именно наличие во мне Абсолюта позволяет мне видеть эмпирическую реальность в системе альтернатив и, тем самым, делает меня относительно независимым от эмпирии. Эта причастность к Абсолюту позволяет мне сознавать себя как нечто частное, ограниченное, позволяет мне мыслить абстрактно, образовывать общие понятия, мыслить “другого” — т. е. создает все те свойства, которые, собственно, и отличают меня от животного.
Поскольку эта “абсолютная” составляющая “Я” проявляет себя в моем поведении, в частности, поскольку я способен выразить присутствие во мне Абсолюта вербально, то, очевидно, этот “абсолютный” аспект моего “Я” должен как-то проявлять себя и физически — как некая самостоятельно действующая “сила” (хотя бы даже иллюзорно). Это действие Абсолюта в составе физической реальности уже нельзя истолковать в духе психофизического параллелизма. Ведь Абсолют — это как раз и есть то, что выше всяких ограничений, что само эти ограничения устанавливает и, следовательно, не может выступать как некий “коррелят” им же самим установленных ограничений или закономерностей.
Как же тогда Абсолют, как целое, может проявлять себя в физическом мире? Поскольку физический мир — это и есть система ограничений, которые Абсолютное бытие накладывает само на себя, то проявлять себя в этом мире Абсолют может лишь одним единственным способом: изменяя саму эту систему ограничений, т. е., иными словами, изменяя те самые “правила игры”, которые он сам же устанавливает (или, по крайней мере, создавая видимость таких изменений).
Следовательно, это действие Абсолюта в мире можно характеризовать как универсальное космическое творчество, которое проявляет себя на самых разных уровнях: от уровня Вселенной в целом, до уровня сознания отдельной человеческой личности. Одна и та же космическая сила творит миры, определяет физические законы в этих мирах, создает жизнь, управляет эволюцией живого, создавая новые виды, участвует, возможно, в процессе онтогенеза, порождает человека, человеческий мозг и, наконец, конкретное индивидуальное сознание. Именно эта же сила, как нам представляется, ответственна и за индивидуальное человеческое творчество и, следовательно, именно она, эта творческая сила, порождает явления культуры. Действие Абсолюта в мире ответственно за все те акты творчества, которые не возможно объяснить с чисто натуралистической точки зрения, т. е. как следствие действия известных нам законов физики, химии и т. д. Этот тезис — о необъяснимости “естественными причинами” любых проявлений творчества во Вселенной, мы и попытаемся аргументированно обосновать в данном параграфе.
Непосредственно во мне это “абсолютное” начало должно проявляться как некая “надприродная”, “сверхфизическая” сила, способная изменять само устройство моего мозга (по крайней мере, в небольших пределах) или изменять его функциональную организацию (внося прямой вклад в осуществление психических функций). Здесь имеются в виду только те изменения структуры и функциональной организации, которые невозможно истолковать натуралистически, т. е. исходя из самой конструкции мозга или даже исходя из известных нам законов физики.
Внешне это должно выглядеть как действие в моем мозге некой сторонней “силы”, которая совместно с веществом мозга участвует в осуществлении психических функций. Таким образом, здесь мы уже от психофизического параллелизма переходим к “дуализму” — теории психофизического взаимодействия (т. н. “интеракционизм”). Точнее говоря, оба эти принципа: “параллелизм” и “интеракционизм” должны совместно использоваться для объяснения отношения между материей и сознанием.
Интеракционизм необходим для объяснения всех тех аспектов сознания, которые не могут быть объяснены естественным (натуралистическим) образом, т.е. противоречат современным представлениям об устройстве физической реальности. К ним мы ранее отнесли: качественность (существование модально специфических ощущений), целесообразность (или наличие творчества) и индивидуальность.
В качестве гипотезы можно предположить, что все эти три “сверхфизические” аспекта сознания связаны с процессами редукции волновой функции (которые необъяснимы в рамках существующей квантовой теории и просто постулируются для того, чтобы связать теорию с реальным положением дел). В частности, невозможность математического (шредингеровского) описания процесса редукции – возможно, является следствием того, что здесь как раз и проявляются качественные свойства физических объектов, которые, очевидно, исключают чисто количественный, математический подход к описанию данного процесса. Редукция, также, есть спонтанный, непредсказуемый процесс – поэтому только здесь, по сути, и может проявляться уникальность, свойственная человеческой индивидуальности. Индивидуальность же тесно связана с творчеством и, следовательно, также может быть связана с редукцией вектора состояния. Таким образом, эти “сверхфизические” аспекты сознания, оказываются тесно взаимосвязанными и, вероятно, имеют один и тот же физический коррелят. (Эту идею мы подробно рассмотрим в следующем разделе).
Тот аспект Абсолюта, который проявляется в моем сознании, эксклюзивно связан с моим организмом – может быть обозначен термином “дух”, поскольку, во-первых, он является как бы посредником между эмпирическим “Я” и “Я” Абсолютным, во-вторых, именно он является носителем индивидуальности, а, следовательно именно он, а не моя эмпирическая личность, есть подлинное мое “Я”. Эмпирическая личность – есть продукт “телесного автомата”, она вполне своеобразна, но не уникальна. Индивидуальность “Я” должна быть уникальной. Индивидуальность “духа” – это не индивидуальность отдельных устойчивых черт личности, а индивидуальность программы развития и совершенствования эмпирической личности.
Итак, подлинное наше “Я” есть не наша эмпирическая личность (отражающая телесный автоматизм), а “дух”, – система изменения, развития и коррекции личности, связанная с действием на нас Абсолюта. Индивидуальность нашего “Я”- это не индивидуальные стабильные свойства личности, а напротив, программа развития личности, та «система толчков» (творческих актов), которая приводит личность в новое состояние. Сознание – с этой точки зрения — это непрерывное присутствие в личности творческого начала, которое необходимо для решения нестандартных поведенческих задач. Я тождественен любому состоянию сознания, но я не тождественен любому действию эмпирической личности. Автоматические действия личности, обусловленные конструкцией организма – есть в сущности нечто внешнее мне, род «не-Я». Поэтому сознание может входить в противоречие с собственной личностью.
Акцентируем внимание на проблеме творчества. Предложенная концепция предполагает, во-первых, невозможность объяснения “естественным образом” любых творческих процессов в природе (а также и в культуре, в обществе) и, во-вторых, предполагает, что все виды творчества имеют общую основу — есть различные формы проявления Абсолютного бытия внутри Мира, творимого самим же этим Абсолютным бытием. Следовательно, все эти виды творчества должны иметь общие черты. Оба эти положения требуют специального рассмотрения и обоснования.
Наиболее фундаментальный акт творчества Абсолютного бытия — это сотворение нашей Вселенной. (При этом, возможно, что она была сотворена в ряду других возможных Вселенных). То, что наша Вселенная существует не вечно – это уже почти общепризнанная истина. Наш Мир должен иметь начало во времени — это следует из второго начала термодинамики, явления “разбегания галактик”, а также существует и многих других дополнительных аргументов в пользу этого предположения. Акт сотворения Вселенной, конечно, не доступен для непосредственного наблюдения, но, используя косвенные данные, используя, в частности, метод экстраполяции, можно попытаться восстановить прошлое Вселенной вплоть до момента ее зарождения. Наиболее популярна и обоснована т. н. “теория Большого взрыва”. Согласно этой теории наблюдаемая Вселенная возникла примерно 13, 75 миллиардов лет назад из бесконечно плотного сингулярного состояния в результате колоссального “взрыва”, отдаленные последствия которого мы наблюдаем по сей день в виде явления “разбегания галактик”. Этот взрыв породил не только вещество нашей Вселенной, но и сам пространственно-временной континуум.
Ясно, что какую бы модель зарождения Вселенной мы не выбрали, объяснить этот процесс с точки зрения существующих (ныне действующих) законов физики не представляется возможным. Действительно, в самый момент зарождения Вселенной пространства и времени еще не существовало и, следовательно, вся наша физика, которая не мыслима без понятий пространства и времени, к описанию этого момента применена в полной мере быть не может. Мы не можем, также, представить себе как вела себя материя в условиях бесконечной плотности. Ясно, также, что никакая известная нам физическая сила не способна породить “взрыв”, подобный тому, который создал нашу Вселенную. Если Вселенная возникла “из ничего” (из вакуума), то, по крайней мере, был нарушен закон сохранения энергии и т. д. (Хотя при некоторых допущениях, как показано в работе [70], возникновение Вселенной “из ничего” – может и не нарушать каких-либо физических законов сохранения, хотя и не следует из них). Т. е., следует признать, что рождение нашей Вселенной есть некое “чудо”, есть нечто “противоестественное”, невыводимое из известных нам принципов физики.
Известные нам фундаментальные физические принципы не дают нам и ответа на вопрос: почему наш мир обладает именно такой физической структурой, а не какой-либо иной. Ведь структура Мира зависит не только от характера фундаментальных физических законов, но, также, определяется начальными условиями (условиями, существовавшими в момент зарождения нашей Вселенной) и значениями физических констант, которые устанавливаются чисто эмпирически.
Для объяснения того, почему наш мир именно такой, какой он есть используют так называемый “антропный принцип” [87]. Расчеты показывают, что существование жизни в нашей Вселенной существенным образом зависит от точных значений физических констант (таких как гравитационная постоянная, заряд и масса электрона, протона, постоянная Планка и т. д.). Даже небольшие изменения этих констант сделали бы жизнь на Земле (и вообще в нашей Вселенной) невозможной. Для иллюстрации связи биологически значимых характеристик Вселенной с физическими константами представим, что произошло бы при изменении значений фундаментальных мировых постоянных. Например, если бы масса электрона была в три-четыре раза выше ее нынешнего значения, то время существования нейтрального атома водорода во Вселенной исчислялось бы несколькими днями. Это привело бы к тому, что галактики и звезды состояли бы преимущественно из нейтронов и привычного для нас многообразия атомов и молекул просто не существовало бы.
Современная структура Вселенной также жестко обусловлена величиной разницей в массах нейтрона и протона. Разность эта очень мала и составляет всего около 10^-3 от массы протона. Однако если бы она была в три раза больше, то во Вселенной не мог бы происходить нуклеосинтез и в ней не было бы сложных элементов. Увеличение же константы сильного взаимодействия всего на несколько процентов привело бы к тому, что уже в первые минуты расширения Вселенной водород полностью выгорел и основным элементом в ней стал бы гелий.
Константа электромагнитного взаимодействия тоже не может существенно отклоняться от своего известного значения 1/137. Если бы, например, она была 1/80, то тогда все частицы, обладающие массой покоя, аннигилировали и Вселенная состояла бы только из безмассовых частиц.
Достаточно сравнительно небольшого отличия константы гравитационного взаимодействия от существующих в действительности, чтобы либо галактики и звезды вообще не успели возникнуть к нашему времени (если бы эта константа была на 8-10% меньше), либо звезды эволюционировали слишком быстро (если бы она была больше на 8-10%).
Увеличение постоянной Планка более чем на 15% лишает протон возможности объединяться с нейтроном, т. е. делает невозможным процессы нуклеосинтеза. То же самое получается, если увеличить массу протона на 30%. Изменение значений этих параметров в меньшую сторону открыло бы возможность образования устойчивого ядра 2Не, следствием чего явилось бы выгорание всего водорода на ранних стадиях расширения Вселенной. Требуемое для этого изменение существующих значений величин не превышает 10%.
Создается впечатление, что эти константы кем-то тщательно подобраны — именно с тем расчетом, чтобы сделать жизнь в нашем Мире возможной. Кроме того, особенно точно должны быть подобраны начальные условия. Для сотворения Вселенной, близкой по своим свойствам к той, в которой мы живем, начальные условия должны быть заданы в фазовом пространстве “возможных вселенных” с точностью, составляющей 1/10^10123 от объема всего этого фазового пространства! [148 с. 277].
Альтернативное объяснение дает теория “множественных миров”. Предполагается одновременное существование множества (возможно даже бесконечное) параллельных миров, в которых реализуются все возможные значения физических констант, начальных условий, а также, возможно, варьируются и фундаментальные физические законы. Тогда среди этих параллельных миров обязательно найдется и такой, в котором константы совпадают с известными нам значениями, что, при наличии соответствующих начальных условий, и делает возможным существование жизни в этом мире. Как живые существа, мы, очевидно, можем обнаружить себя лишь в таком мире, в котором жизнь разрешена. Таким образом, сам факт нашего существования как бы предопределяет свойства того мира, в котором мы существуем (хотя, как показывают расчеты, и с несколько меньшей точностью, чем это необходимо для того, чтобы однозначно определить все наблюдаемые свойства нашей Вселенной [148]).
Какой бы вариант мы не выбрали, — в обоих случаях предполагается существование некой особой “сущности”, которая стоит “выше” физических законов, т. е. не подчинено этим законам. Это либо то самое гипотетическое начало, которое целенаправленно “подбирает” константы и начальные условия и тем самым определяет конкретное физическое устройство нашего мира. Либо это то бесконечное множество “параллельных миров”, элементом которого является и наша Вселенная. (Содержательно, эта бесконечная совокупность всех возможных параллельных миров — есть не что иное, как актуализированный Абсолют). Таким образом, мы видим, что попытки объяснить происхождение Вселенной, а также попытки понять, почему наша Вселенная именно такая, какая она есть — неизбежно выводят нас за рамки “естественного”, “природного” объяснения и ведут к предположению о существовании некой “надприродной”, “сверхъестественной” реальности, производной от которой является наша Вселенная.
Другой необъяснимый естественным путем процесс новообразования — это зарождение живого из неживого. Расчеты показывают, что случайное самозарождение даже одной белковой молекулы, входящей в состав живой клетки, и состоящей из нескольких сотен аминокислот — событие практически невероятное. Известный антиэволюционист Д. Гиш пишет по этому поводу: “Молекулярный вес 340 различных видов аминокислот приблизительно равен 34000. Для того чтобы сформировать молекулу простейшего белкового соединения, нужно всего 12 разновидностей аминокислот (а всего используется 20 разновидностей аминокислот — И.Е.). Они могут располагаться в молекуле многими способами. Общее число таких способов 10^300! Это значит, что на первичной Земле могло возникнуть 10^300 молекул, по разному составленных из тех же самых 12 аминокислот с молекулярным весом 34000. Даже если бы мы имели по одной молекуле определенного сорта, то их общий вес был бы, примерно, 10^280 грамм. А вся Земля весит только 10^27 грамм! Вся известная Вселенная, превратившись в простейший белок, не смогла бы вместить эти молекулы, пусть даже взятые только по одной из каждой разновидности” [286 цит. по 216 с. 56].
Заметим, что речь здесь идет о достаточно простой белковой молекуле, состоящей из 340 аминокислот. Некоторые белки имеют массу около 100000 и выше. Напомним, также, даже бактерии содержат порядка 3000 различных белков, а в человеческом организме содержится около 5.10^6 различных белков. Значительная часть этих белков видоспецифична. В целом же на Земле насчитывается примерно 1200000 различных организмов, которые содержат 10^10—10^12 различных белков и примерно 10^10 аминокислот [80].
Ясно, что случайно такое большое число высокоспецифичных соединений возникнуть не могло. Можно с уверенностью сказать, что случайное возникновение даже простейшей живой клетки — есть нечто практически невозможное. Даже если предположить, что самые первые организмы содержали всего несколько сотен белков, необходимо еще, чтобы эти белки оказались собранными вместе, были расположены в определенном порядке, были, также, соединены с нуклеиновыми кислотами и т. д. Клетка — это не просто “мешок с белками и нуклеиновыми кислотами” — это сложная пространственно организованная структура, в которой каждая молекула должна находиться на своем месте. Случайное возникновение такой структуры столь же маловероятно как, скажем, спонтанная самосборка телевизора из беспорядочной кучи наугад перемешенных радиодеталей. (Расчеты показывают, что вероятность случайного возникновения таких структур, как простейшая клетка, имеет порядок 10^–280, тогда как уже вероятность 10^-20 уже считается равной нулю [133]).
Известно, что практически все химические реакции в живой клетке протекают при участии специфических ферментов. В частности, полимеризация белков, нуклеиновых кислот, углеводов и липидов в водной среде может происходить только при участии ферментов. Ферменты — это белковые соединения. Их синтез управляется информационными молекулами ДНК и РНК. Вместе с тем синтез информационных молекул возможен лишь при участии специфического фермента. Т.о. возникает замкнутый круг: синтез белка требует существование строго определенных молекул ДНК и РНК (причем, РНК — двух видов), а синтез ДНК и РНК — требует существование высокоспецифичных белковых молекул. Следовательно, и специфичные информационные молекулы и необходимые ферменты должны каким-то чудом возникнуть одновременно в одном и том же месте и их свойства должны быть “заранее” подогнаны друг к другу. Заметим, также, что синтез белка в любых известных нам живых организмах, даже самых примитивных, возможен лишь при участии рибосом — сложных структур, состоящих из нескольких высокоспецифичных белков и содержащих, также, нуклеиновые кислоты. Рибосомы — это как бы сложные “автоматы”, осуществляющие строго упорядоченную сборку белковых молекул на матрице и-РНК и при участии т-РНК и специфических ферментов. Трудно представить, как такой строго упорядоченный синтез белка возможен без этих сложно организованных систем. Вместе с тем, случайное абиогенное возникновение рибосом — есть нечто практически невероятное.
Самая первая живая клетка, видимо, должна обладать не только способностью синтезировать белки и нуклеиновые кислоты, но и способностью обеспечивать себя энергией (а значит, синтезировать достаточно сложные молекулы АТФ), должна быть способна размножаться, питаться, должна обладать устойчивостью к внешним воздействиям и т. д. Заметим, что условия, в которых возможен абиогенный синтез белка и нуклеиновых кислот (тепло, излучение, электрические разряды и т.п.) весьма губительны для живых организмов. Вообще процессы распада сложных биомолекул имеют гораздо большую вероятность, чем процессы самопроизвольного синтеза. Следовательно, наиболее вероятным исходом было бы практически мгновенное уничтожение спонтанно возникшей первоклетки.
В последние десятилетия сторонники спонтанного самозарождения жизни делают основную ставку на синергетику — теорию, которая описывает процессы самоорганизации в физических и химических системах, находящихся вдали от состояния термодинамического равновесия. Показано, что в сильно неравновесных условиях могут возникать различные спонтанные формы упорядочения — типа упорядоченных конвективных потоков (ячейки Бенара) или периодических химических процессов (реакция Белоусова—Жаботинского). Эти спонтанные формы упорядочения получили название “диссипативных структур” (И. Пригожин и др.). Полагают, что синергетика позволит в конечном итоге объяснить возникновение живого как спонтанный процесс самоорганизации материи в условиях далеких от равновесия. Это как раз тот процесс, который способен сделать маловероятные события синтеза специфических биологических макромолекул — высоковероятными.
Однако даже сами создатели синергетики [235 с. 35] отмечают, что формы упорядоченности, изучаемые синергетикой, не являются специфичными для живых организмов. Диссипативные структуры связаны с когерентным поведением большого числа атомов и молекул, а также пространственным упорядочиванием молекулярных систем в макроскопических масштабах. В живых же системах наблюдается сложная функциональная упорядоченность, связанная с тонким взаимным сопряжением огромного количества разнообразных химических реакций. Диссипативные структуры автоматически возникают при определенных неравновесных условиях и, как правило, не способны к какому-либо спонтанному саморазвитию или самоусложнению. (Механизм усложнение молекулярных систем описывается здесь как некий “молекулярный аналог” дарвиновского “естественного отбора”. Но поскольку, как мы увидим ниже, “естественный отбор” не дает объяснения происхождения видов, то он, видимо, не способен объяснить и “молекулярную эволюцию”).
И. Пригожин, к примеру, писал в одной из своих статей: “Ничтожно мала возможность того, что при обычных температурах гигантское количество молекул расположится так, чтобы дать начало высокоорганизованным структурам и взаимосогласованным функциям, характерных для живых организмов. Поэтому идея самопроизвольного зарождения жизни в ее нынешнем виде — в высшей степени неубедительна, даже в масштабах тех миллиардов лет, в течение которых происходила эволюция живой природы” (цит. по [133 с. 27]).
Отметим, что еще в 70-е годы исследования биологического фракционирования изотопов показали, что распределение изотопов в биомолекулах отвечает состоянию, близкому к термодинамическому равновесию [36], что противоречит синергетическому пониманию природы живого вещества. В связи с этим, в последнее время предложен новый подход к объяснению происхождения живого (а также и эволюции живого), в котором возникновение первых организмов и их усложнение связывается с процессами диспропорционирования энтропии в сопряженных химических реакциях [36]. Эти процессы, в отличие от тех, которые изучаются синергетикой, протекают преимущественно в условиях близких к равновесным (область линейной неравновесной термодинамики). Диспропорционирование энтропии — это процесс, в котором имеют место две разнонаправленные сопряженные реакции — одна из которых характеризуется положительным производством энтропии (т. е. связана с распадом сложных соединений), а другая — отрицательным производством энтропии (т. е. связана с синтезом все более и более сложных соединений). Суммарное производство энтропии оказывается положительным и, таким образом, процесс спонтанного упорядочивания не вступает в противоречие со вторым законом термодинамики (усложнение организации как бы “оплачивается” сопряженным процессом распада сложных соединений).
Явление диспропорционирования энтропии наблюдается в неживой природе. Достаточно часто наблюдаются сопряженные процессы, когда продуктами химических реакций являются, с одной стороны, более простые соединения, а с другой — более сложные. Так, химические превращения бывших биомолекул ведет, с одной стороны, к образованию простых соединений типа СО2, Н2О, NH3 и др., а с другой — образуются сложные соединения: фульвовые и гуминовые кислоты и кероген. Аналогичным образом в нефти образуются сложные битумо-асфальтеновые полимерные образования. Все это означает, что в природе существует естественный механизм, который ведет к усложнению, все большему и большему упорядочиванию молекулярных структур. Э.М. Галимов полагает, что подобный механизм, основанный на диспропорционировании энтропии, породил первые живые организмы, а также именно он обуславливает тенденцию к усложнению конструкции живых организмов.
С нашей точки зрения данная теория все же не дает убедительного объяснения происхождения живого. Существование тенденции к усложнению организации молекулярных структур само по себе не дает гарантии, что возникнут именно те соединения, которые необходимы для формирования самого примитивного живого организма. Напомним, также, что эти соединения должны возникнуть в одном месте и в одно и то же время и должны быть каким-то образом упорядочены в пространстве. Реалистическая теория происхождения жизни должна, видимо, показать, что жизнь каким-то образом изначально “запрограммирована” в законах физики, т. е. есть высоковероятное следствие действия обычных физических и химических законов. Ничего подобного ни одна из известных нам теорий зарождения жизни не продемонстрировала.
Анализ ископаемых останков показывает, что жизнь на Земле, видимо, возникла практически сразу (в геологическом, конечно, масштабе времени), как только сложились благоприятные условия, совместимые с выживанием живых организмов. (Возраст Земли приблизительно составляет 4,45—4,75 млрд. лет. Следы живых организмов обнаруживаются в слоях с возрастом 3,85 млрд. лет. Т.е., фактически, органическая жизнь обнаруживается в самых старых из сохранившихся древних пород [178]). Есть, также, основания думать, что возникновение жизни — это однократный акт, который больше никогда не повторялся на Земле. Все это противоречит гипотезе о постепенности и “запрограммированности” возникновения живого. Скорее, зарождение жизни выглядит как совершенно невероятное, противоречащее законам природы, “чудесное” однократное событие.
Загадкой является не только происхождение живого, но и последующее эволюционное развитие живых организмов, порождающее все новые и новые виды животных и растений. Мы уже писали выше о кризисе, переживаемым дарвинизмом. Современный дарвинизм представлен т. н. “синтетической теорией эволюции”, которая объясняет эволюционный процесс накоплением мутаций (случайных повреждений генетического аппарата) и отбором наиболее приспособленных особей-мутантов. Возникновение новых видов представляется как очень медленный, постепенный процесс накопления “полезных мутаций”, который сопровождается обязательной элиминацией предшественников (иначе мутация не может распространиться на всю популяцию и последовательное накопление мутаций окажется невозможным).
Основная проблема синтетической теории — это проблема темпов эволюционных изменений. Эволюция в конечном итоге связана с возникновением нового генетического материала — новых генов и, соответственно, новых белковых молекул. Подсчитано, что молекула ДНК, участвующая в простейшем цикле кодирования белков, должна состоять не менее чем из 600 нуклеотидов, расположенных в определенной последовательности. Поскольку всего существует четыре типа нуклеотидов, то вероятность случайного синтеза такой ДНК равна 4^-600 или 10^-400, иначе говоря, для этого потребуется в среднем 10^400 попыток. Даже если мы уменьшим число нуклеотидов до 60, то и тогда число возможных комбинаций ДНК составит 10^18 — что на порядок больше числа секунд в 4,5 миллиарда лет (предполагаемый возраст Земли). Учитывая низкую среднюю частоту мутаций — у эукариот порядка 10^-9 на нуклеотид на одну гамету на одно поколение (т.е. какое-либо изменение конкретного нуклеотида будет иметь место лишь в одной из миллиарда гамет), легко сделать вывод, что времени на случайный перебор всех вариантов конфигурации генов и выбор наилучшего у эволюции просто не было.
Сторонники ортодоксальной теории эволюции на это обычно заявляют: новую генетическую информацию создает не случайный перебор вариантов последовательностей нуклеотидов, а отбор, который фиксирует удачные замены «букв» генетического алфавита и тем самым последовательно сокращает объем дальнейшего необходимого перебора. Действительно, если мы будем случайным образом заменять буквы в некотором произвольном тексте конечной длинны, и будем, также, фиксировать любую удачную замену (когда нужная буква становится на нужное мест) — то мы достаточно легко получим любой заранее заданный осмысленный текст путем чисто случайного перебора. (Например, для того, чтобы получить с помощью случайного перебора букв с фиксацией удачных замен фразу БЫТЬИЛИНЕБЫТЬ компьютерной программе потребовалось всего 336 операций [180]). Однако для реального эволюционного процесса фиксация любой удачной замены нуклеотидов (т.е. соответствующей полезной конечной конфигурации) представляется невыполнимы требованием. Фактически оно означает, что всякая удачная точечная мутация — ведущая эволюцию в нужном направлении — должна быть не просто полезной (что само по себе крайне маловероятно — поскольку трудно представить, что лишь частично сформированный генетический текст может принести хоть какую-то пользу), но быть настолько полезной, чтобы быстро распространиться на всю популяцию — поскольку в противном случае последовательное накопление полезных мутаций было бы не возможно. Отсюда становится ясно, что быстрое накопление полезных мутаций должно сопровождаться огромными селективными потерями (поскольку выживать будет почти исключительно лишь потомство мутировавшей особи), которые вряд ли совместимы с самим фактом выживания данной популяции. Исследования показывают, что полезные точечные мутации дают, как правило, очень небольшое селективное преимущество их носителям. Но в этом случае вероятность элиминации такой мутации в последующих поколениях очень высока. (Сошлемся на конкретные исследования. Фишер вычислил вероятность сохранения нового мутантного аллеля, возникшего у одной особи в обширной популяции. Как показывают его данные, шансы на сохранение единичной мутации заметно понижаются с каждым поколением. Если мутантный аллель в селективном отношении нейтрален, то вероятность его исчезновения к 31-му поколению составляет 94%, а к 127-му — 98%. Если он обладает небольшим селективным преимуществом (порядка 1%), то вероятность его исчезновения несколько снижается (93 и 97% в поколениях 31 и 127 соответственно), но остается высокой [44]). Напомним, также, что оценивая вероятность суммирования последовательных мутаций в одном гене мы должны каждый раз складывать показатели степени числа, обозначающего вероятность случайного мутирования данного гена. Для эвкариот она имеет порядок 10^-5 на ген, на поколение, на гамету. Следовательно, вероятность, что в данном гене последовательно произойдет хотя бы 6 мутаций будет равна 10^-30.
Таким образом, если в арсенале эволюции не было бы ничего, кроме случайных мутаций и естественного отбора, то эволюция была бы в лучшем случае растянута на миллиарды лет, а в худшем — была бы вообще не возможна. На самом деле эволюция не только возможна, но, как показывают современные исследования, может создавать новые виды в чрезвычайно короткие сроки (порядка десятков лет). Так, экологический кризис в Аральском море, связанный с акклиматизационными работами, а также с падение уровня моря и повышением солености воды, привел к вымиранию ряда видов и освобождению трофических ниш, которые, однако, в течение двух десятилетий (с 1961 — до начала 90-х годов) были заполнены новыми видами двухстворчатых моллюсков. Сформировалось несколько новых групп моллюсков, изменчивость по морфологическим признакам между которыми не только превышает межвидовую изменчивость исходного вида Cerastoderma, но и, по ряду признаков, выходит за пределы рода и даже семейства [2].
Существует еще целый ряд фактов, которые никак не согласуются с гипотезой отбора случайных мутаций — как единственной движущей силы эволюции. Прежде всего, исследования мутагенеза привели к выводу, что мутации в различных генах отнюдь не равновероятны, происходят с различной частотой. Известен, также, феномен адаптивного мутагенеза. Исследования Дж. Кэрнса, Дж. Овербаха и С. Миллера, опубликованные в 1988 г. в журнале «Nature», показали, что селективные условия оказывают специфическое влияние на спектр мутаций, возникающих у бактериальных клеток. В работе утверждалось, что бактериальные клетки могут контролировать свой мутационный процесс, направляя его в сторону образования нужных мутантных ферментов, что позволяет клеткам адекватно реагировать на сигналы окружающей среды. В экспериментах с мутантными клетками E. coli, неспособными использовать лактозу в качестве источника углерода, авторы установили, что скорость образования ревертантов в том случае, если мутантные бактерии инкубировали на чашках в присутствии лактозы, значительно превышала ожидаемую из случайного возникновения обратных мутаций в стационарной бактериальной культуре. Результаты Дж. Кэрнса и соавторов получили экспериментальное подтверждение в дальнейших исследованиях и в работах других авторов с использованием бактериальных и дрожжевых клеток. Эти данные ясно показывают, что мутагенез — не чисто случайный процесс. Он явно регулируется какими-то не известными нам механизмами.
Далее, случайный характер изменчивости делает вполне логичным предположение, что скорость эволюции должна быть прямо пропорциональна как размеру популяции, так и скорости смены поколений (чем больше популяция и чем короче жизненный цикл — тем больше материала для отбора). На самом деле палеонтологических данных, которые подтверждали бы этот вывод, очень мало. Среди млекопитающих есть животные с коротким жизненный циклом, такие, как опоссумы, для которых характерны низкие темпы эволюции, и медленно размножающиеся животные с небольшой численностью популяции, такие, как слоны, эволюция которых протекала быстро. Грызуны с коротким и копытные с длинным жизненным циклом начиная с плиоцена и плейстоцена эволюционировали примерно с одинаковой скоростью. Хищные, имеющие длинный цикл и низкую численность популяций, в целом эволюционировали довольно быстро.
Недавно была установлена связь скорости нейтральной молекулярной эволюции белков с интенсивностью обмена веществ в организме. Показано, что уменьшение размера тела в 10 раз увеличивает скорость молекулярной эволюции в 200 раз, а повышение температуры тела на 10 градусов — в 300 раз. Если бы эволюция полностью зависела от случайных мутаций, то мелкие животные с интенсивным обменом веществ эволюционировали бы в сотни раз быстрее крупных животных, чего на самом деле не наблюдается. Следовательно, остается признать, что эволюция определяется какими-то особыми неслучайными полезными мутациями, которые никак не связаны с известными нам процессами случайного мутагенеза, зависимыми от интенсивности метаболизма.
В последнее время существенно изменились представления о том, каким образом в ходе эволюции происходили крупные изменения организации (ароморфозы). Оказалось, что во многих случаях новые черты организации возникают не в какой-то одной эволюционной линии, а в нескольких, развивающихся параллельно. При этом сходные признаки иногда появляются в разных линиях почти одновременно, а иногда — в разное время и даже в разном порядке. Данные признаки постепенно накапливаются, пока, наконец, в одной или нескольких линиях они не проявятся все вместе. Так, например, происходила эволюция млекопитающих, птиц, членистоногих. Здесь очевидно проявляется закономерный характер эволюции. В какой-то момент как бы появляется новая «идея» — например, идея птицы или млекопитающего. И во многих разных группах независимо друг от друга начинают развиваться сходные признаки, хотя, нередко, весьма разными путями [121].
Все эти изложенные факты заставляют предположить, что процесс эволюции направляется каким-то неизвестным нам фактором, который, вероятно, способен осуществлять быстрые адаптивные перестройки генома, например, существенно увеличивая вероятность как отдельных мутаций, так и их сочетаний. Представляется крайне маловероятным, что данный гипотетический эволюционный фактор когда-либо удастся объяснить натуралистически, т.е. с позиций имеющихся в настоящее время физических, химических, биологических и прочих теорий. Т.е. данный фактор запределен, трансцендентен по отношению к известным нам схемам теоретического объяснения.
Сказанного достаточно, чтобы сделать заключение: нам совершенно не понятны те механизмы, которые привели вначале к возникновению живого на земле, а потом породили все известное нам многообразие животных и растений. Но это означает, что нам не понятно ни происхождение человека, ни происхождение его сознания. Известные нам законы природы не только не объясняют, как возникла жизнь и как сформировались виды живых организмов, но, напротив, непредвзятый анализ показывает, что возникновение жизни и эволюция — есть нечто крайне маловероятное, почти невозможное, “чудесное”. По существу, натуралистические объяснения не работают везде, где мы сталкиваемся с процессами развития, изменения существующих форм жизни. Но они вполне работают, когда мы рассматриваем функционирование уже сформированного организма. Функции клетки или человеческого организма мы вполне можем объяснить исходя из имеющихся данных о строении клетки и человеческого тела. Но как возникла клетка или организм — объяснить натуралистически не представляется возможным.
Существенные проблемы возникают даже в том случае, когда мы пытаемся объяснить развитие организма в онтогенезе. Не существует ясного научного объяснения того, как из одной оплодотворенной яйцеклетки возникает сложный многоклеточный организм. Мы не находим в яйцеклетке какой-либо видимой “программы”, которая определяла бы последовательность построения различных органов и ткани, а также их пространственное расположение. Иными словами, не решен вопрос о генетическом контроле процесса эмбриогенеза [120]. Детальный анализ строения клетки не выявляет в ней какого-либо массива информации, который мог бы выполнять функцию “программирования” всех этапов эмбрионального развития. Молекула ДНК содержит лишь сведения о строении белков, входящих в состав клеток организма, но в ней нет подробного “описания” морфологического строения отдельных органов, описания их пространственной дислокации и механизмов их эмбрионального развития. (Недавно были открыты т.н. Нох-гены, которые ответственны за пространственное распределение органов. Удивительно, однако, что они совершенно одинаковы у мышей, моллюсков и дрозофил. Т. е., они, очевидно, не содержат детальное описание строения органов и путей их морфогенеза [36]). Именно по этой причине в эмбриологии пользуются по сей день популярностью различного рода “полевые” теории, постулирующие существование особых “эмбриональных” или “клеточных” полей, управляющих процессами морфогенеза. (См. подробнее п.5.4).
Рассмотрим теперь процессы развития в области психических, культурных и социальных явлений. Возможно ли дать исчерпывающее натуралистическое объяснение процессов развития индивидуальной психики, а также процессов культурогенеза и социогенеза?
Однозначно ответить на этот вопрос весьма сложно просто потому, что здесь, в отличие от биологии, мы даже не имеем сколько-нибудь проработанных теорий, которые бы объясняли процессы психического, культурного или социального развития с натуралистической точки зрения. Имеющиеся теории имеют преимущественно феноменологический характер, т. е. не затрагивают вопрос о характере тех сил, которые направляют процессы развития. В лучшем случае такие теории пытаются учитывать взаимозависимости между различными классами психических или культурных явлений и, таким образом, представляют процессы развития как результат сложного взаимодействия различных факторов (мотивационных, информационных, идеологических, экономических и т.п.). Примером может служить марксистская теория развития общества, которая ставит развитие духовной культуры в зависимость от развития материального производства (т. н. “экономический детерминизм”).
Но все эти теории не объясняют самого главного — сам механизм возникновения психических, культурных и социальных новообразований. Самый важный вопрос — вопрос о природе человеческого творчества, об источниках этого творчества (а всякое развитие, как индивидуальной психики, так и культуры, — есть творческий процесс) — остается открытым.
Попытки психологов истолковать творческий процесс натуралистически, приводят к теориям, в которых создание нового сводится либо к процессам рекомбинации элементов, полученных в чувственном опыте, либо творчество объясняется в духе теории “проб и ошибок” (т. н. “теория случайных находок”) [172]. Но таким образом к “творчеству” относят то, что, собственно, творчеством не является. Ведь подлинное человеческое творчество, особенно художественное творчество, кроме всего прочего демонстрирует удивительную целостность, целесообразность, внутреннее органическое единство творческого продукта, что, очевидно, невозможно объяснить механическими рекомбинациями или беспорядочными пробами, с последующей селекцией удачных вариантов. (Цельность творческого продукта пытались объяснить с позиций т. н. “теории поля” в рамках “гештальт-психологии”. М. Вертгеймер, в своей книге “Продуктивное мышление” объяснял интеллектуальное творчество как процесс, направленный на “улучшение гештальта”, т. е. направленный на восполнение пробелов, улучшение смысловой структуры воспринимаемой проблемной ситуации [172]. Эта теория, однако, не дает ответа на главный вопрос: каким образом вообще возможно то самое “предвосхищение целого”, которое и позволяет субъекту видеть пробелы, ощущать неполноту воспринятого?)
Следует отдельно рассмотреть процессы развития индивидуальной психики в онтогенезе и процессы культурогенеза.
Развитие психики человека основано на его способности к самообучению. Сущность этой способности нам пока не понятна. Это видно из весьма скромных успехов в области создания “самообучающихся машин”. Создать компьютер, который был бы способен неограниченно повышать свой интеллектуальный уровень, непрерывно обогащать себя новыми знаниями, гибко приспосабливаться к новым условиям — мы пока не в состоянии. Никаких эффективных “алгоритмов самообучения” до сих пор не существует. И даже не ясно является ли проблема создания “самообучающихся машин” разрешимой. Ведь любой алгоритм, будь он даже алгоритмом самообучения (т. е. обладающий способностью к самосовершенствованию), накладывает на систему, ему подчиненную, жесткие рамки, открывая для нее одни возможности и совершенно закрывая другие возможности. Алгоритмическая система может развиваться лишь строго в тех направлениях, которые ей заранее были предписаны. Человек же (как родовое существо) универсален — для него потенциально открыты любые возможности, разрешены любые направления развития и, следовательно, никакой алгоритм не способен воспроизвести в полной мере его способность к саморазвитию.
Самообучающийся алгоритм можно определить как алгоритм, который способен строить другие алгоритмы. Но он не только должен уметь их строить, но должен также быть способен оценивать их пригодность, работоспособность. Однако, как это следует из известной теоремы об алгоритмической неразрешимости проблемы “остановки”, не существует универсальной алгоритмической процедуры проверки пригодности любых алгоритмов. Невозможно алгоритмически установить: остановится произвольный алгоритм при заданных входных данных, или же будет работать вечно. Алгоритмически неразрешима также и проблема проверки непротиворечивости произвольной формальной (дедуктивной) системы. Таким образом, чтобы создавать эффективные новые алгоритмы, необходимо, видимо, выйти за рамки чисто алгоритмического подхода.
Даже способность человека к математическому творчеству, как это следует из теоремы Геделя о неполноте формальных систем, не поддается алгоритмической имитации [148]. Какую бы сложную систему аксиом или алгоритмических предписаний мы не задали, человек всегда способен выдумать что-то новое, невыводимое из данных аксиом и предписаний. (Отсюда, видимо, нужно сделать вывод, что в основе творчества в целом лежит некий “алгоритмически невычислимый” процесс). Таким образом, способность человека к развитию и саморазвитию, видимо, никогда не будет для нас до конца понятна.
Другое важное направление исследований индивидуального развития психики — это проблема способностей. Уже с раннего детства многие люди проявляют повышенные (иногда даже феноменальные) способности к той или иной деятельности. Очень часто появление этих способностей невозможно объяснить ни наследственностью, ни условиями развития, ни воспитанием, ни особо эффективным обучением. Способность в этих случаях проявляется как некий “дар свыше”, как нечто необъяснимое. Талант музыканта, художника, композитора, поэта — не есть что-то “приобретенное в опыте”. Талант либо есть, либо его нет. Если он есть, то он, нередко, проявляется очень рано, иногда сразу в развитой форме — без сколько-нибудь длительного периода ученичества (достаточно вспомнить Пушкина, Цветаеву, Маяковского). Заметим, что и сами художественные произведения, нередко, рождаются спонтанно, сразу в завершенной форме, без всякого видимого усилия со стороны творца. Они как бы просто “высвобождаются”, “актуализируются” в сознании, “входят” в сознание из какой-то “подсознательной” сферы, где они находились до актуализации. Здесь уместно вспомнить известные случаи творчества во сне и случаи внезапного творческого озарения — когда сложная и глубокая идея (научная или художественная) приходила в сознание неожиданно и нередко уже в готовом, законченном виде [1]. Можно также вспомнить удивительные случаи создания талантливых художественных произведений посредством “автоматического письма” в состоянии транса.
Нужно отметить, также, своеобразное явление “отчуждения” творческого продукта от личности его создателя. Творец нередко сам удивлен тем, что он создал, не понимает мотивы, цели и истинное значение продуктов собственного творчества. Творчество требует особого состояния вдохновения, которое еще древние (Платон и др.) характеризовали как род “исступления”, “выхода из себя” (экстазиса), подчеркивая тем самым, что здесь через посредство творца действует некое высшее, надындивидуальное начало. Истинное произведение искусства непременно содержит в себе “надындивидуальный” элемент — именно поэтому оно и интересно для всех. (Но, вместе с тем, творение несет и отпечаток личности его создателя. Это означает, что путь к “общезначимому” лежит через подсознательные глубины индивидуального “Я”). По этой же причине и для самого творца его собственное произведение — есть нечто неожиданное, новое, небывалое, загадочное. (Это обстоятельство, собственно, и делает творчество таким привлекательным).
Развитие способностей (если этот термин вообще уместен) — это процесс непредсказуемый, нелинейный. Эти способности, особенно в области художественного творчества, могут внезапно возникать и исчезать, творческим личностям свойственно терять свой дар, “выдыхаться” (достаточно вспомнить известное явление, когда писатель “исписывается”, начинает повторяться, утрачивает творческий потенциал). Наблюдая развитие творческих способностей мы часто не видим линейного восхождения от более простых и примитивных творений — к более сложным и совершенным. Отметим, что такая же неравномерность и нелинейность свойственна и процессам культурогенеза. Развитие культурных форм далеко не всегда идет по восходящей, от простого — к сложному, от примитивных форм — к более развитым. Самые древние известные нам произведения искусства (наскальная живопись, религиозные гимны и эпос, мифы) далеко не всегда примитивны, нередко обладают очень высокими художественными достоинствами, содержат глубокие философские идеи. Древние языки (например, санскрит, латынь, древнегреческий) отнюдь не являются более простыми, чем современные языки. Напротив, в развитии языков четко прослеживается тенденция к упрощению.
Развитие цивилизаций, отдельных культурных форм и художественных направлений нередко носит “взрывной” характер — путь от примитивных форм искусства, идеологии и общественной организации — к развитым, высокодифференцированным формам, часто занимает всего лишь период жизни нескольких поколений (такой “взрывообразный” культурогенез, например, наблюдался в античной Греции в период 6—5 вв. до нашей эры). Такие же “скачкообразные” изменения культурной жизни наблюдаются и в наше время (возникновение художественного “авангарда” в начале 20 века, формирование “рок-культуры” в 50—60 годы и т.п.).
Процессы культурогенеза часто выглядят как подобие “вулканического извержения”. Это как бы некие “прорывы” “творческой энергии” из “трансцендентного плана” бытия в наш предметный мир. Эти “прорывы” в короткие сроки порождают как бы “на пустом месте” огромное разнообразие новых художественных, музыкальных, литературных направлений. Именно в эти “активные” фазы культурогенеза, как правило, и рождаются шедевры. Затем “энергия” убывает, культурные формы стабилизируются, стереотипизируются — наступает эпоха застоя, эпигонства. Этот процесс заканчивается, рано или поздно, гибелью данного культурного организма. Именно по такому сценарию развивалось большинство известных нам древних цивилизаций (древнеегипетская, греко-римская, китайская и др.). Таким же образом развиваются и отдельные формы культуры.
“Взрывной” характер культурогенеза, как нам представляется, невозможно объяснить какими-либо “естественными” причинами. Это хорошо понимал и отразил в своей оригинальной теории этногенеза Л.Н. Гумилев [47]. Для объяснения процессов этногенеза ему понадобилось обращение к неизвестным “космическим” факторам, способным оказывать воздействие на поведение больших человеческих сообществ. Причем действие этих факторов оказывается привязанным к определенным временным интервалам и определенным географическим зонам. Это означает, что процессы этногенеза связаны с какими-то общими изменениями, происходящими в биосфере Земли.
Вообще сам факт существования культуры необъясним натуралистически. Культура — по определению, есть нечто “надприродное” — это все то, что творится человеком, причем творится именно в силу того, что человек — не есть просто часть природы, не есть только животное. Чисто природное существо не способно создавать что-то такое, что выходит за рамки “только природного”. Следовательно, сама способность творить культуру уже указывает на существование в человеке “надприродного” начала. Человек отчасти природное, отчасти — надприродное существо. Он принадлежит сразу двум мирам: природному и трансцендентному. Культура — это и есть “проекция” трансцендентной сферы бытия в природный мир.
Хотя артефакты материальной культуры сами по себе есть обычные физические объекты и, с этой точки зрения, они принадлежат природному миру, но, по способу генезиса — они есть объекты надприродные, т.к. они не могут быть порождены какими-либо естественными, природными процессами (точнее говоря, вероятность их естественного возникновения пренебрежимо мала). Естественно поэтому предположить, что в создании культурных предметов принимают участие какие-то надприродные, трансцендентные факторы, которые, в этом случае, действуют (через посредство человека) в составе природной реальности.
Заметим, что имеющиеся в настоящее время попытки натуралистического объяснения возникновения культуры и, шире, человеческого сознания вообще, как правило, содержат “порочный круг” — для объяснения одних явлений культуры привлекаются другие, уже существующие, культурные феномены. Например, нередко культуру определяют как “символическую реальность”, подчеркивая тем самым, что способность к созданию культурных форм есть нечто производное от способности оперирования символами, в частности, речевыми символами. Но любые символы, речь, язык — это тоже элементы культуры. Следовательно, объясняя культуру как продукт символической деятельности, мы тем самым уходим от наиболее важного вопроса: как вообще возможна культура как таковая — в любой, сколь угодно элементарной ее форме. Предполагается, что зарождение культуры уже предполагает существование каких-то зачаточных культурных форм. Возникновение же последних остается без всякого объяснения.
Но сама способность к символической деятельности также требует объяснения. Способность создавать символы и оперировать ими уже предполагает некоторую дистанцированность субъекта от предметной природной действительности. Для того чтобы успешно оперировать символами, необходимо преодолеть зависимость от эмпирически заданных связей между вещами, а также от заданных связей между свойствами этих вещей. Только в этом случае мы сможем, опираясь на символы, конструировать “возможные миры” и, следовательно, сможем мысленно проигрывать различные ситуации, вместо того, чтобы реально их проживать (все это и образует нашу способность предвидеть, прогнозировать будущее). Такая способность к “дистанцированию” предполагает способность мыслить мир в системе альтернатив, что, в свою очередь, предполагает наличие в нашем сознании “Универсума возможного”, т. е. Абсолюта. Заметим также, что понятия, которыми мы пользуемся, не являются простыми эмпирическими обобщениями: понятие “треугольник” имеет своим денотатом не только те треугольники, с которыми я сталкивался когда-либо в опыте, но любые мыслимые треугольники. Следовательно, и способность к понятийному мышлению также требует причастности к “Универсуму возможного”. (Заметим, что значимость речи для человеческого мышления, видимо, сильно преувеличена. Исследования психологов показывают, что наше мышление в значительной степени не вербально. На это обстоятельство, в частности, указывают трудности, которые часто возникают при попытке вербально выразить уже сформированную мысль [1]. Еще Шопенгауэр писал: “Мысли умирают, когда воплощаются в слова”. Кроме того, нейропсихологам давно известно, что потеря речи отнюдь не обязательно ведет к снижению общего интеллекта, в частности, может никак не отразиться на математических способностях индивида. Заметим также, что обучение обезьян языку глухонемых отнюдь не делало их умнее необученных сородичей. В частности, говорящие обезьяны хуже необученных выполняли тесты, связанные с решением невербальных задач).
Последовательный натурализм должен по существу отрицать какую-либо качественную специфику культуры по отношению к природной реальности, т. е. неизбежно влечет натурализацию культуры. Однако культурная реальность — не есть просто усложненная природная реальность. Она качественно иная. Отличие здесь проявляется, прежде всего, в том, что те творческие “силы”, которые в природном мире действуют лишь на уровне отдельных видов живого, определяя их специфику, в сфере культуры действуют уже на уровне индивидов (точнее, на уровне коллективной деятельности индивидов). Происходит как бы огромная концентрация творческой энергии в пространстве и времени. В результате темпы развития культуры на много порядков выше, чем темпы развития органической природы.
Важно подчеркнуть не только специфику процессов культурогенеза, но, также важно показать единство мира природного и мира культуры. Мы приходим к убеждению, что во всех проявлениях творчества, во всех процессах подлинного новообразования — как в природе, так и в культуре — действуют одни и те же творческие силы. То, что сотворило нашу Вселенную, создало живое из неживого, сотворило виды животных и растений — эта же сила творит в нас (и через нас) предметы духовной и материальной культуры. С этой точки зрения, культура не противоположна природе, а есть лишь реализация возможности дальнейшего совершенствования природных объектов (см. аналогичную точку зрения в [7]).
В защиту этого тезиса можно привести множество фактов, указывающих на единство общих закономерностей процессов развития на всех уровнях бытия — от космического, до социального.
Во всех случаях процессы “творения” до конца не объяснимы, они носят, как правило, “взрывной” характер (“эволюционный взрыв” чередуется с длительным периодом “спокойного развития”, когда образование новых форм практически прекращается), всякое развитие проходит через фазы быстрого начального роста, стабилизации, медленной деградации и, наконец, гибели. Так, стадии развития социально-культурных организмов повторяют стадии развития живых организмов (на это впервые обратил внимание Н. Данилевский), а также, по сути, повторяют стадии развития отдельных видов, родов и классов животных. Всякое развитие идет в направлении роста многообразия, создания новых, все более сложных форм и эти формы, затем, подвергаются селекции. И в развитии Вселенной, и в возникновении жизни, и в эволюции живого, и в развитии индивидуальной психики и культуры — везде мы видим целесообразность, видим нечто, напоминающее реализацию некоего “замысла”, глубоко продуманного плана. Эти процессы развития на всех уровнях предполагают возможность предвидения будущего (будущей полезности органа, технического устройства и т.п.). Существует четкий параллелизм в развитии видов живых организмов и развитии видов техники или художественных направлений.
Конечно, трудно говорить о каких-либо совершенно универсальных, всеобщих законах, управляющих развитием в каждом конкретном случае. Направления развития, способы развития, формы развития — бесконечно разнообразны. Но так и должно быть, если учесть, что “энергия творчества” исходит из начала (Абсолюта), которое само по себе не подчинено никаким законам, правилам и ограничениям — поскольку именно оно, это начало, эти законы, правило и ограничения устанавливает. Именно невозможность установить какие-то универсальные “законы развития” на любом из уровней бытия — и указывает более всего на общность источника этого развития.
Различия более всего проявляются в пространственных и временных масштабах действия творческих сил. Вне человека творческая энергия действует в масштабах миллиардов и миллионов лет и полем ее деятельности является вся Вселенная. В человеке эти творческие силы проявляются в масштабах столетий, десятилетий, лет, дней, часов, минут и ареной их деятельности является лишь поверхность Земли. Еще Шеллинг полагал, что творчество человека — есть продолжение творчества, действующего в природе. И есть, добавим, наиболее концентрированное выражение этого творчества. Специфика нашей точки зрения в том, что единство творческих сил, проявляемых в природе и культуре, а также необъяснимость творчества с натуралистической точки зрения, у нас есть не просто предположение, косвенно обоснованные фактами, а есть совершенно необходимое следствие принятой нами концепции сознания, а именно, есть следствие того, что “абсолютная” составляющая нашего “Я” с необходимостью должна проявляться в составе физической реальности, которая, в свою очередь, коррелятивна нашей эмпирической личности.
Кажется, что сама творческая энергия находится в постоянном поиске форм, через которые она могла бы наиболее эффективно проявить себя, побеждая косность “материи”. (Эта “материя”, однако, сама есть не что иное, как “застывшая свобода”, т. е. есть продукт самоограничения самой этой творческой энергии. Здесь просматривается явная аналогия с учением Н.А. Бердяева [20] о “первобытии” как чистой творческой энергии и “объективации” — как процессе, который приводит к самоограничению “первобытия” продуктами собственного творчества. “Застывшие” продукты творчества ограничивают, сковывают творческую активность, загоняют ее в жесткие рамки. Но творческая энергия, время от времени, разрушает эти рамки, вырывается из косной среды и создает новый мир, новые формы бытия, которые, однако, “застывая” снова становятся тормозом развития). В этом стремлении к самореализации, самоосвобождению — можно усмотреть глубинный смысл мирового процесса (так смысл мирового процесса представлял себе Гегель).
Какие выводы из всего сказанного можно сделать, — если мы опять вернемся к анализу перспектив решения психофизической проблемы? Решение этой проблемы, как мы видели, предполагает некоторое сочетание психофизического параллелизма и концепции психофизического взаимодействия (дуализма). С одной стороны, необходимо продолжить исследование психофизических корреляций, т. е. необходимо во всех деталях проследить связи между психикой и процессами в мозге. С другой стороны, мы должны ожидать, что рано или поздно мы подойдем к границам применимости концепции параллелизма. Из сказанного следует, что то, что мы можем отнести к “проявлениям творчества” (индивидуальное развитие психики, способность к обучению, художественное, научное, техническое творчество и т. п.) с позиций параллелизма, и вообще с какой-либо “натуралистической” или “естественнонаучной” точки зрения, объяснить не удастся. Концепция параллелизма, также, видимо не сможет объяснить такие свойства сферы субъективного, как качественность чувственных переживаний, индивидуальность нашего “Я”, характерную для психики целевую причинность и нашу способность к самоосознанию. Все эти свойства сознания, видимо, зависят от действия в нас той составляющей нашего “Я”, которая совпадает с Абсолютом и, следовательно, не может быть объяснена с позиций натурализма. Т.о., можно предсказать, что рано или поздно мы столкнемся в исследованиях мозга с какими-то “аномальными” явлениями, необъяснимыми с научной точки зрения. Тем не менее, наука позволяет нам, как мы увидим в следующем разделе, указать то вероятное “место“ в научной картине мира, которые могут занимать эти самые “аномальные“ с физической точки зрения явления сознания.
5.3 Сознание в квантовом мире
Основной практически важный вывод, который вытекает из проделанного нами в предыдущем разделе анализа психофизической проблемы, заключается в том, что даже в рамках чисто монистической (идеалистической) модели сознания нам не удается избежать дуализма материи и духа. Если этот дуализм устраняется на уровне субстанций, то, тем не менее, он сохраняется на функциональном уровне – поскольку мы не можем целиком отождествить функцию сознания с функцией мозга. Мы вынуждены признать, что работа нашего сознания, по крайней мере, отчасти обеспечивается неким трансцендентным, экстрасоматическим фактором, ответственным за все те функциональные и феноменальные свойства сознания, которые мы не способны объяснить натуралистически (качественность, индивидуальность, свобода воли, способность к творчеству).
Всякий дуализм неизбежно порождает сложную проблему истолкования характера психофизического взаимодействия. Сложность этой проблемы в том, что сознание посредством воли управляет движениями нашего тела и, следовательно, каким-то образом оказывает воздействие на физические процессы в этом теле. Но поскольку физическая картина мира причинно замкнута (в силу действия законов сохранения), то сознание, действуя в физическом мире, само должно существовать как физический объект. Однако наш анализ показывает, что базовые свойства сознания исключают такую его интерпретацию. Выход видится в том, чтобы найти такой элемент физической картины мира, который, присутствуя с необходимостью в этой картине, тем не менее, не мог бы быть истолкован в рамках этой картины мира именно как физический объект и, кроме того, его свойства позволяли бы соотнести его с сознанием. Таким элементом физической картины мира, с нашей точки зрения, является процесс редукции вектора состояния в квантовой теории. Т.о. квантовая теория как бы указывает нам то место в физической картине мира, в которое мы можем достаточно органично встроить наши представления о сознании, не нарушая, при этом, какие-либо физические принципы. Более того, специфика квантовомеханического описания реальности такова, что оно позволяет нам вообще избежать необходимости постулировать какое-либо воздействие сознания на материю и свести функцию сознания исключительно к восприятию тех или иных элементов физической реальности.
В последнее время идея связи сознания с процессом редукции вектора состояния активно обсуждалась в работах М.Б. Менского [124, 125] Поэтому удобнее начать анализ данной проблемы с изложения его точки зрения.
Теория сознания Менского основывается на многомировой интерпретации квантовой механики, предложенной еще в 50-х годах американским физиком Хью Эвереттом III [275]. Эта интерпретация была преложена еще в 50-е годы прошлого века как средство преодоления концептуальных трудностей в основаниях квантовой механики, возникающих в связи с постулатом редукции волновой функции, который представляется необходимым для построения квантовомеханической теории измерений.
Поясним суть проблемы на примере. Предположим, что мы имеем квантовую систему, состояние которой описывается вектором состояния |Ф>. Мы имеем, также, измерительный прибор, измеряющий некий параметр Р, и способный, при этом, различить два альтернативных значения Р: р1 и р2. Если |Ф> не является собственной функцией оператора данной наблюдаемой Р, то мы не можем заранее предсказать результаты измерения. Квантовая механика в этом случае дает лишь вероятностные предсказания. Зная |Ф>, мы можем заранее вычислить с какой вероятностью мы будем наблюдать при многократном повторении данного измерения значения р1 и р2. Для вычисления этих вероятностей, согласно стандартной теории измерения, мы должны разложить |Ф> по базису, образованному собственными функциями оператора измеряемой величины. В нашем примере величина принимает два значения р1 и р2 и, следовательно, имеются только две соответствующие им собственные функции |ф1> и |ф2>. Таким образом, мы должны представить |Ф> в виде суперпозиции: |Ф> = с1|ф1> + с2 |ф2>, где с1 и с2 – комплексные числа. Вероятность получить значения р1 и р2 будет равна, соответственно, |с1|2 и |с2|2 , а сама квантовая система после измерения в зависимости от его результата будет находиться либо в состоянии |ф1> либо состоянии |ф2>. Т.е. по окончанию измерения мы должны вычеркнуть в исходной суперпозиции |Ф> = с1|ф1> + с2|ф2> либо компоненту |ф1> (если результат соответствует р2), либо компоненту |ф2> (в противном случае). Это и есть процедура “редукции волновой функции“.
Парадоксальность процедуры редукции заключается в том, что она никоем образом не может быть получена как результат шредингеровской эволюции вектора состояния как исходной системы, так и объединенной системы, состоящей из квантовой системы и измерительного прибора. Измерение с физической точки зрения есть взаимодействие квантовой системы с измерительным прибором и как таковое оно, конечно, может быть описано с помощью уравнения Шредингера. Пусть прибор до измерения находится в квантовом состоянии |Р>. Тогда состояние совместной системы “квантовый объект + прибор“ до измерения представляется произведением: |Р>|Ф> = |с1|ф1> + с2|ф2>||Р>. После взаимодействия в силу линейности шредингеровской эволюции мы получим суперпозицию, описывающую совместное состояние квантовой системы и прибора: |G> =с1|ф1>|р1> + с2|ф2>|р2>, где |р1> и |р2> — состояния прибора после измерения означающие, соответственно: “прибор показал значение р1“ и “прибор показал значение р2. Т.о. после взаимодействия с квантовой системой прибор также переходит в состояние суперпозиции, что противоречит тому очевидному факту, что посмотрев на показания данного прибора мы всегда находим его каком-то определенном состоянии: либо |р1>, либо |р2>. Ситуация не меняется и в том случае, если мы попытаемся учесть также и взаимодействие системы “объект+прибор“ с человеком-наблюдателем, который считывает показания данного прибора. Обозначим состояние наблюдателя до осуществления наблюдения состояния прибора |F>. Тогда состояние совместной системы: “объект+прибор+наблюдатель“ до измерения будет изображаться вектором |Р>|Ф>|F>. После измерения но до наблюдения оно переходит в |с1|ф1>|р1> + с2|ф2>|р2>||F>, а после наблюдения, опять-таки в силу линейности шредингеровской эволюции, переходит в суперпозицию: с1|ф1>|р1>|f1> + с2|ф2>|р2>|f2>, где |f1> и |f2> есть, соответственно состояния наблюдателя, соответствующие случаям: “наблюдатель увидел что прибор показывает значение р1“ и “наблюдатель увидел, что прибор показывает значение р2“. Это означает, что наблюдатель, как только он посмотрел показание прибора, переходит в суперпозиционное состояние и, следовательно, не способен однозначно определить в каком из двух альтернативных состояний находится прибор. Все это явно противоречит здравому смыслу и требует объяснения.
Традиционное (копенгагенское) решение парадокса измерения основано на постулате “классичности“ измерительного прибора (и, естественно, человека-наблюдателя). Квантовое описание, якобы, применимо лишь к микрообъектам, но не к макроскопическим предметам вроде прибора или человека. Поэтому последние должны описываться с позиций классической физики и, соответственно, не могут находиться в состоянии суперпозиции. Макрообъекты всегда находятся в каком-то вполне определенном “классическом“ физическом состоянии, что ведет к разрушению суперпозиции уже на уровне взаимодействия квантовой системы с прибором. Т.о. в этом случае мы, как макроскопические существа, всегда имеем дело с классическими “проекциями“ квантовой реальности, но не с квантовыми состояниями как таковыми. Эта точка зрения, однако, не имеет никакого оправдания внутри самого квантовомеханического формализма. Классическое описание, с точки зрения квантовой теории, есть лишь приближение к более точному и адекватному квантовому описанию и, если макрообъект состоит из множества микрочастиц, описываемых как по отдельности, так и в совокупности с позиций квантовой механики, то нет никаких оснований думать, что макробъект как целое не может быть описан как квантовомеханическая система, и что эта система не может находиться в состоянии суперпозиции. Существование макроскопических квантовых эффектов (таких как сверхпроводимость, сверхтекучесть и др.) прямо указывает на применимость квантового описания к сколь угодно большим совокупностям частиц. Используя эти эффекты, можно также продемонстрировать существование “макроскопических суперпорзиционных состояний“ [283].
Проблему измерения в квантовой механике пытаются, также, разрешить с позиций весьма популярной в настоящее время “теории декогеренции“. Согласно концепции “декогеренции“, взаимодействие квантовой системы и прибора, описываемое с позиции квантовой механики, порождает т.н. “запутанное состояние“ этих двух систем (квантового объекта и прибора). Это означает, что между этими двумя системами имеют место квантовые корреляции, которые не позволяют каждой из этих систем в отдельности приписать чистое квантовое состояние. (Соответственно вектор состояния, описывающий запутанную систему “квантовый объект+прибор“, не может быть представлен в виде произведения двух волновых функций, описывающих эти две системы по отдельности). Однако каждую из подсистем можно описать отдельно друг от друга с помощью матрицы плотности. Матрица плотности, в отличие от волновой функции описывает не чистое, а смешанное состояние квантовой системы. В нашем примере матрица плотности для квантовой системы после ее взаимодействия с прибором вычисляется по формуле: TrP |G><G| = |c1|2|ф1><ф1| + |с2|2|ф2><ф2|. Здесь TrP – операция взятия частичного следа по состояниям системы Р (прибора) для общей матрицы плотности объединенной системы “объект+прибор“ |G><G|. Из этой формулы видно, что исходная суперпозиция превратилась в смесь двух чистых состояний |ф1> и |ф2>, которые при многократном повторении измерения будут наблюдаться с вероятностями |c1|2 и |c2|2 соответственно. Специфика описания состояния измеряемой системы с помощью матрицы плотности состоит в том, что здесь квантовые амплитуды вероятности заменяются обычными классическими вероятностями и таким образом теряется информация об относительной фазе комплексных коэффициентов с1 и с2 (поэтому процесс и называется “декогеренция“). В результате становятся ненаблюдаемыми характерные для квантовых процессов интерференционные эффекты и квантовая статистика становится неотличимой от классической статистики. Последнее обстоятельство и дает некоторым авторам повод утверждать, что декогеренция якобы и есть адекватное квантовомеханическое описание измерения. Однако легко понять, что это не так. В результате декогеренции исходная суперпозиция переходит в смесь, однако реально мы наблюдаем лишь одну из компонент этой смеси. Куда же, спрашивается, девается вторая компонента? На этот вопрос теория декогеренции никакого ответа не дает. Кроме того, процесс декогеренции принципиально обратим (возможен обратный процесс “рекогеренции“ — восстановления исходной суперпозиции из смеси [59]), тогда как обычно понимаемая редукция волновой функции – процесс необратимый. По сути, в процессе декогеренции исходная суперпозиция не разрушается, а лишь “маскируется“ за счет перепутывания степеней свободы квантового объекта с многочисленными степенями свободы макроскопического измерительного прибора и эта “маскировка“ — есть лишь следствие нашей неспособности контролировать степени свободы макроскопических объектов. Таким образом, ни “копенгагенская интерпретация“, ни “теория декогеренции“ не дают нам внятного, самосогласованного решения проблемы квантового измерения.
В этом отношении более приемлемо решение проблемы измерения, которое дает многомировая интерпретация квантовой механики Эверетта. По сути, она основана на буквальном истолковании квантовомеханического описания взаимодействия квантовой системы, прибора и наблюдателя. Как мы видели, результатом этого процесса является суперпозиционное состояние вида: с1|ф1>|р1>|f1> + с2|ф2>|р2>|f2>, которое буквально означает, что субъект с вероятностью |с1|2 наблюдает величину р1, характеризующую состояние прибора после измерения, и с вероятностью |с2|2 – величину р2. В силу линейности уравнения Шредингера никакой физический процесс не способен мгновенно уничтожить одну из компонент суперпозиции, оставив неизменной вторую. Следовательно, если мы считаем квантовую механику полной и замкнутой теорией, мы должны признать, что обе компоненты суперпозиции продолжают существовать и после измерения. Эверетт интерпретирует эту ситуацию следующим образом: никакой редукции волновой функции в процессе измерения не происходит, но происходит “расщепление“ Вселенной на два экземпляра, которые тождественны во всех отношениях за исключением считываемых субъектом показаний прибора, регистрирующего результат данного эксперимента. Во Вселенной1 он видит значение р1, а во Вселенной2 – значение р2. Это означает, что и субъект-наблюдатель “расщепляется“ два экземпляра (“двойника“), которые одинаковы во всех отношениях за исключением того, что первый “двойник“ обнаруживает себя во Вселенной1 и наблюдает показание прибора р1, а второй “двойник“ — во Вселенной2 и, соответственно, наблюдает р2. В общем случае, если измерение допускает N различимых исходов и, соответственно, суперпозиция до момента измерения состоит из N компонент (N может варьировать от 2 до бесконечности), то в результате осуществления измерения Вселенная и субъект-наблюдатель расщепляются на N экземпляров, в каждой из которых реализуется одна из компонент данной суперпозиции.
Уже в теории Эверетта сознание оказывается тесно связанным с процессом селекции элементов суперпозиции квантового состояния. Именно расщепление сознания ведет к видимому эффекту “редукции“ волновой функции: мы видим вполне определенный результат измерения именно потому, что наше сознание расщепилось вместе со Вселенной и способно видеть только одну из компонент исходной суперпозиции. Однако в этой теории не ясно, что представляет собой сознание само по себе. Менский делает следующий, вполне логичный шаг и постулирует, что сознание – это и есть не что иное, как сам “процесс разделения квантового состояния на компоненты“. В частности, он пишет: “Способность человека (и любого живого существа), называемая сознанием, — это то же самое явление, которое в квантовой теории измерений называется редукцией состояния или селекцией альтернативы, а в концепции Эверетта фигурирует как разделение единого квантового мира на классические альтернативы“ [124 с. 426].
В целом, принимая в общих чертах эту идею о связи сознания с процессом “селекции альтернатив“, мы, тем не менее, полагаем, что нет никакой необходимости непременно связывать ее с эвереттовским расщеплением Вселенной на “одинаково реальные“ дубликаты и тем более с расщеплением субъекта на множество “одинаково реальных“ двойников. Оба эти положения не только не являются необходимыми, но и влекут ряд гносеологических затруднений и парадоксов, от которых, однако, можно легко избавиться, если представить процесс “селекции альтернатив“ несколько в ином свете.
Отметим вначале очевидные недостатки эвереттовской интерпретации процесса измерения. Начнем с тезиса о “расщеплении“ Вселенной на множество “дубликатов“, каждый из которых соответствует одному из членов суперпозиции состояния наблюдаемой квантовой системы. Во-первых, сама идея, что Вселенная как целое действительно расщепляется на множество “одинаково реальных“ дубликатов только из-за того, что я произвел какие-то эксперименты с приборами и микрообъектами кажется совершенно фантастической и контринтуитивной. Каким образом мои столь ничтожные действия могли произвести столь грандиозный по масштабам результат? Как я могу породить целые Вселенные простым актом считывания показания с прибора? Этот недостаток отмечает, в частности, и Менский. [124 с. 424]. Он же отмечает и второй недостаток интерпретации Эверетта. Он заключается в том, что концепция “многомирия“ (известная, также как концепция “Мультиверса“) принципиально недоказуема, если только не предположить, что “параллельные миры“ способны каким-то образом воздействовать друг на друга. Однако, эта возможность чисто гипотетична, никак не вытекает из аппарата квантовой теории и ведет к весьма фантастическим выводам о неоднозначности прошлого, существования различного вариантов прошлого для разных субъектов и т.п. (мы имеем в виду т.н. гипотезу “склейки“ элементов Мультиверса [181]). Далее, если каждый акт измерения-осознания делит единый квантовый мир на “классические альтернативы“ и мы каждый раз обнаруживаем себя лишь в одном из этих миров, то, спрашивается, как мы вообще можем обнаружить какие-то квантовые свойства окружающей нас физической реальности?
Еще большие проблемы порождает идея “расщепления“ субъекта-наблюдателя на множество двойников, каждый из которых обнаруживает себя в одной из “параллельных Вселенных“. (Назовем это “концепцией мультиперсоны“). Попытаемся поставить себя на место данного наблюдателя. Предположим, я осуществляю измерение состояния квантовой системы, которое может дать два альтернативных результата: А и Б. Если имеет место результат А – загорается красная лампочка, если Б — зеленая. Спрашивается: что я увижу по окончании этого эксперимента? Очевидно, одно из двух: либо загорится красная лампочка, либо зеленая — и никогда то и другое одновременно. Пусть я вижу, что загорелась красная лампочка. Тогда, согласно концепции Мультиверса в параллельной вселенной мой двойник видит, что загорелась зеленая лампочка. Поскольку мы с двойником абсолютно тождественны по всем параметрам за исключением того, что я вижу красную лампочку, а он зеленую, то естественно было бы предположить, что мы с ним являемся одной и той же личностью, одним и тем же “Я“. Тогда одно и то же “Я“ видит и красную и зеленую лампочку. Но я вижу только красную лампочку, следовательно, я не есть мой двойник, а он не есть я. Но тогда мы должны допустить, что такой ничтожный факт, как видение вместо красной лампочки зеленой, вполне достаточен для того, чтобы я утратил себетождественность, превратился в “не-я“. Следовательно, мы должны в этой ситуации либо признать абсурдную идею возможности раздвоения “Я“ — возможности существования двух не связанных друг с другом отношением единства сознания индивидов, имеющих одно и то же индивидуальное “Я“, либо признать, что малейшее изменение в моих восприятиях способно разрушить себетождественность моего “Я“. И то, и другое представляется контринтуитивным. Таким образом, мы должны отказаться от признания существования и Мультиверса, и мультиперсоны. Сделать это, видимо, можно только одним способом: признать, что “в действительности“ существует только одна единственная видимая нами Вселенная и каждый человек существует “в действительности“ лишь в виде одной единственной персоны, обнаруживающей себя в этой единственной Вселенной.
Как этот вывод совместить с идеей, что функция сознания совпадает с функцией “селекции альтернативы“ в квантовом измерении? Ясно, что селекция альтернатив неразрывно связана с чувственным восприятием этих альтернатив. Сознание выбирает именно то, что мы чувственно воспринимаем. И наоборот, то, что выбирает наше сознание в процессе селекции альтернативы – это и есть то, что мы в данный момент чувственно воспринимаем. Отсюда естественно сделать вывод, что выбор альтернативы и чувственное восприятие – суть одно и то же. Куда же в таком случае деваются другие альтернативы – которые мы не воспринимаем? Они никуда не деваются, с ними ровным счетом ничего не происходит. Они остаются там, где они и были – в составе изначальной суперпозиции. Вместе с тем, если мы их не воспринимаем, и, тем не менее, признаем, что они все же существуют, то это отнюдь не означает, что их кто-то обязательно должен воспринимать или что они существуют в том же смысле, в каком существуют воспринимаемые нами объекты. Если в вышерассмотренном примере я вижу красную лампочку, а в суперпозиции содержится также и возможность “видения зеленой лампочки“, то это отнюдь не означает, что эту зеленую лампочку обязательно должен кто-то видеть или же что она должна даже невидимая существовать как “действительно существующая зеленая лампочка“. В суперпозиции она существует именно как “возможность видения зеленой лампочки“. Следовательно, и после измерения она может спокойно продолжать существовать в качестве “возможности видения“, т.е. как существующая чистая возможность, как потенция.
Здесь уместно вспомнить о классической борновской “вероятностной“ интерпретации вектора состояния. Согласно буквальному пониманию этой интерпретации, квантовое состояние до измерения описывает лишь распределение возможностей получить те или иные результаты измерений определенных физических величин. Нет оснований думать, что эти величины существуют в действительности до того, как мы произвели измерение. Более того, как известно, такое предположение ведет к противоречию с формализмом квантовой механики. Следовательно, до измерения квантовая система существует лишь в виде совокупности “сущих возможностей“ (сущих потенций) и только измерение переводит часть этих возможностей в действительное, актуальное состояние. (Такую “буквальную“ интерпретацию вектора состояния, как известно, предлагал еще В. Гейзенберг, а также классик отечественной физики В.А. Фок).
Актуализация связана с наблюдением, а наблюдение всегда сопряжено с чувственным восприятием. Поэтому мы вполне законно можем предположить, что актуализация и чувственное восприятие – суть одно и то же. Восприятие переводит одну из компонент суперпозиции в акт, тогда как все остальные (невоспринимаемые) компоненты суперпозиции по-прежнему пребывают там, где они и были – в сфере потенциального бытия. При этом восприятие (актуализация) никакого физического воздействия на вектор состояния не оказывает, в том числе и на ту компоненту, которую она актуализирует. Актуализация (которая, по сути, и есть “чувственное осознание“) как бы просто “помечает“ ту или иную компоненту суперпозиции, что никак не влияет на физическое состояние квантовой системы, на эволюцию ее квантового состояния, но, однако, влияет на последующие актуализации. Все выглядит так, как если бы мы при расчетах просто отмечали маркером ту или иную компоненту суперпозиции, что никак не влияло бы на дальнейшие расчеты, но существенно влияло на дальнейшие делаемые нами пометки. (Используя эту аналогию, мы далее будем процесс актуализации также называть “маркированием“).
Для того, чтобы получить реалистическую теорию квантовых измерений, мы должны наложить на процессы актуализации (“маркирования“), по крайней мере, два условия: самосогласованности и интерсубъективности. Условие самосогласованности требует, чтобы каждая последующая актуализация согласовалась с результатами предыдущих актуализаций. Например, если в первом измерении (над одной и той же квантовой системой) актуализация “пометила“ (“маркировала“) компоненту ф1 (что соответствует в нашем примере восприятию наблюдаемой р1) и, соответственно, не “маркировала“ компоненту ф2, то в следующем измерении может быть “маркирована“ только та компонента новой суперпозиции, которая эволюционно происходит от “маркированного“ состояния ф1, но никогда не будет “маркирована“ какая-либо компонента, которая происходит из ранее “немаркированного“ состояния ф2, хотя ее “потомки“ никуда не исчезают и на равных правах с “потомками“ ф1 присутствуют в итоговой суперпозиции. Собственно, именно это условие самосогласованности и порождает иллюзию “редукции“ вектора состояния: поскольку “не маркированные“ компоненты суперпозиции никогда не дают “маркированных“ “потомков“ (ранее не “маркированная“ ветвь квантового процесса никогда не маркируется в последствии), то соответствующие компоненты и их “потомки“ никогда не станут объектом восприятия и, следовательно, ими можно попросту пренебречь.Если “маркированные“ и “немаркированные“ ветви квантового процесса затем пространственно перекрываются, то вклад “немаркированной“ ветви не учитывается (“вычитается“) в нашем восприятии, поэтому мы не наблюдаем в этом случае эффектов интерференции. В тех же случаях, когда измерение осуществляется, но результаты далее теряются и не воспринимаются каким-либо субъектом, разрушение интерференции можно объяснить декогеренцией. Т.о. декогеренция мешает нам непосредственно зафиксировать в эксперименте описанное “мнимое“ воздействие сознания на квантовую систему (которое, по сути, является лишь следствием воздействия предшествующих восприятий на последующие).
Условие интерсубъективности требует, чтобы результаты восприятий (актуализаций) разных субъектов были взаимно согласованы. Т.е. если я в процессе квантового измерения увидел, что зажглась красная лампочка (и, следовательно, актуализировалось состояние ф1), то то же самое увидит и мой приятель, который наблюдает за моими экспериментами. Таким образом, все актуализации состояний квантовой Вселенной взаимно согласованны, что создает общий для всех, интерсубъективный “видимый мир“ (мир, данный в чувственном восприятии различных субъектов-наблюдателей).
Наша концепция т.о. существенным образом отличается от теории Мультиверса. Во-первых, в нашей модели ничего не расщепляется: ни Вселенная, ни наблюдатель. Вселенная не расщепляется потому, что все альтернативы уже предсуществуют в составе волновой функции, описывающей полное состояние Вселенной во все моменты времени, а сознание лишь выбирает (воспринимает) одну из этих альтернатив и при этом оно никакого воздействия на физическую реальность не оказывает. Субъект же не расщепляется потому, что сознание не является продуктом мозговой деятельности и мозг выступает для сознания лишь как объект восприятия, через посредство которого оно воспринимает и весь остальной мир. Если мозг находится в состоянии суперпозиции, компоненты которой соответствуют различным восприятиям исхода эксперимента с квантовыми объектами, то сознание воспринимает лишь одну из этих компонент, игнорируя другие, что и обеспечивает единственность и однозначность восприятия, а также целостность самого субъекта. Во-вторых, в концепции Мультиверса каждое наблюдение “выделяет“ (актуализирует) некую “классическую альтернативу“, описывающую состояние Вселенной в целом. В нашей модели, поскольку актуализация совпадает с чувственным восприятием, достаточно лишь перехода в “актуальный план бытия“ (“маркирования“) физического состояния той части мозга, которая отвечает за сенсорное восприятие (“сенсориума“) (Хотя при этом, конечно, “маркируются“ и спряженные с квантовым состоянием “сенсориума“ элементы суперпозиции, относимые к внешнему миру – но только в том их аспекте, который так или иначе отображается в текущем состоянии “сенсориума“). Следовательно, каждое измерение фиксирует не “состояние Вселенной“, а лишь частное, привязанное к определенному субъекту, “состояние восприятия Вселенной“, в той мере, в какой оно отражено в “сенсориуме“. “Классические альтернативы“ есть, в таком случае, лишь альтернативные состояния “сенсориума“, тогда как остальной мир как был квантовым до его восприятия, так таковым и остается. Заметим, также, что если никакое наблюдение не производится, то нет смысла описывать квантовое состояние в виде той или иной суперпозиции. Суперпозиционные состояния имеют смысл только по отношению к тем или иным видам измерений – как результат разложения данного квантового состояния по собственным векторам оператора измеряемой величины. Т.о. вместо Мультиверса (совокупности параллельных Вселенных) мы имеем просто квантовое состояние Вселенной, описываемое некоторым вектором состояния. (по сути, такую же мысль высказывает и Менский в цитированной статье [124]). Если представить, что это квантовое состояние Вселенной определено в каждый момент времени, то соответствующий “всевременный“ вектор состояния будет описывать все возможные (допустимые с физической точки зрения) результаты любых возможных измерений, осуществляемых в любые моменты времени.
Поскольку этот “всевременный“ вектор состояния Вселенной представляет собой некую себетождественную стационарную структуру, его можно уподобить как бы огромному кристаллу, в котором изначально “записаны“ любые возможные “восприятия Вселенной“ (любые возможные актуализации). Назовем эту структуру “Квантовый кристалл“. Процесс актуализации (восприятия) можно представить, в таком случае, как некую “волну возбуждения“, которая распространяется внутри Квантового кристалла вдоль временной оси и движется, при этом, как совокупность “точек“ (каждая из которых представляет индивидуальное сознание), которые перемещаются не хаотично, а по неким самосогласованным и взаимосогласованным траекториям и при этом никакого воздействия на сам Квантовый кристалл не оказывают.
Рассмотрим теперь в какой мере представленная модель квантового измерения решает те проблемы, которые мы описали выше в связи с концепцией Мультиверса. Прежде всего, как уже отмечалось, снимаются проблемы, связанные с “расщеплением“ как Вселенной, так и субъекта-наблюдателя. В нашей модели ничего не расщепляется и, более того, акт осознания не оказывает вообще ни какого воздействия на физическую реальность. На первый взгляд в нашей концепции сохраняется основной “гносеологический“ порок теории Мультивеса: она кажется принципиально недоказуемой. Действительно, если мы способны “видеть“ лишь одну компоненту суперпозиции и принципиально не “видим“ другие, то как мы можем доказать или показать, что они вообще существуют? Однако если эти компоненты не воспринимаемы, это еще не означает, что они не познаваемы. Мы не можем их воспринять, но вполне можем их помыслить, пережить их как некие смысловые феномены. Иными словами, мы утверждаем, что ненаблюдаемые части суперпозиции (а, по сути, и весь Квантовый кристалл в целом) непосредственно обнаруживают себя в нашем сознании в виде феномена смысла. Природу смысла мы проанализировали в первой главе данной работы. Там мы пришли к выводу, что смысл можно истолковать как совокупность “чистых потенций“, образующих единое “смысловое поле“. Чувственные же феномены можно в таком случае рассматривать как различные формы актуализации элементов этого “смыслового поля“. При этом содержательно смысловое поле есть “Умопостигаемый универсум“ – множество всего, что вообще возможно помыслить (или, что то же самое, “совокупность всех возможных миров“). Заметим также, что смысловое поле мыслится нами как надындивидуальная форма бытия, в которой укоренен каждый индивидуальный эмпирический субъект, тогда как чувственные феномены – мыслятся как сугубо индивидуальные и приватные.
Данная теория смысла легко совмещается с нашим представлением о квантовом мире как совокупности объективно существующих “потенций“ образующих стационарную (сверхвременную) структуру — Квантовый кристалл, внутри которого распространяется “волна актуализации“, которая в каждый момент времени соответствует актуальному содержанию чувственного восприятия различных субъектов. Мы видим, что свойства смыслов и свойства “ненаблюдаемых квантовых состояний“ фактически тождественны. И то и другое – есть потенциальная форма бытия, “сущая возможность“. В обоих случаях актуализация этих потенций интерпретируется как чувственное восприятие. И смыслы, и квантовые состояния – существуют как единые целостные системы (как единое “смысловое поле“ и единое “запутанное“ квантовое состояние Вселенной), обладающие “объективным“, надындивидуальным бытием.
Одна из сложностей отождествления смыслового поля с квантовым миром состоит в том, что мы, если не занимаемся квантовой теорией, никогда не мыслим реальность в терминах микрообъектов и соответствующих им пространственных и временных масштабов. Эту проблему можно снять, предположив существование некоего “встроенного“ в сознание механизма, который в процессе восприятия переводит “квантовые коды“ на язык привычного нам макромира, осуществляя при этом соответствующее усреднение микропараметров. (Нечто подобное, видимо, происходит и в процессе воображения – хотя материалом воображения могут служить любые элементы смыслового поля (даже выходящие за пределы “квантового кристалла“) – эти элементы должны также подвергаться “масштабному преобразованию“, имитирующему действие механизма восприятия).
Далее, мы отмечали в первой главе вневременность и внепространственность смысла. Это, на первый взгляд противоречит пространственно-временному характеру описания квантовых состояний. Однако если мы учтем также положения релятивистской физики и будем рассматривать квантовый мир (Квантовый кристалл) как квантово-релятивистский объект, то мы уже не можем утверждать, что физическое пространство-время тождественны чувственно воспринимаемым пространству и времени. В теории относительности пространство и время не существуют отдельно друг от друга. Существует единый пространственно-временной континуум, который для разных наблюдателей по-разному распадается на отдельно существующее пространство и отдельно существующее время. Один и тот же пространственно-временной интервал может для одного наблюдателя представляться чисто пространственным интервалом, а для другого – пространственно-временным. Также и чисто временной интервал для одного наблюдателя будет представляться пространственно-временным для другого. Таким образом, физическое время может частично превращаться в пространство, а пространство – во время. Возможность такого превращения, очевидно, означает качественную однородность физического пространства и времени. Однако на уровне чувственного восприятия время и пространство, несомненно, воспринимаются нами как качественно различные сущности. Получается, что физика говорит нам о каких-то иных пространстве и времени, не совпадающих с непосредственно переживаемом ними чувственным пространством и чувственным временем.
Даже если мы ограничимся рамками нерелятивистской квантовой механики, мы вынуждены будем признать, что фигурирующие в ней “пространство“ и “время“ существенно отличаются от воспринимаемой нами чувственной пространственности и чувственной событийности. Квантовая механика, если не учитывать процессы актуализации (измерения), описывает лишь “чистые потенции“, “возможности“. Следовательно, правильнее будет считать, что она описывает не реальную “локализацию в пространстве“, но лишь “возможность восприятия локализации в пространстве“, и не “событие во времени“, а “возможность восприятия события в определенный момент времени“. Следовательно, квантовая теория непосредственно содержит в себе не пространство и время (как мы их чувственно воспринимаем), но “пространственно-временные потенции“, которые, очевидно, существуют в ином, чем чувственное пространство и время, онтологическом модусе. Поэтому, если мы мыслим пространство и время как компоненты самой формы чувственности как таковой (наряду с качественностью), то верным будет утверждение, что квантовомеханическое описание само по себе является внепространственным и вневременным, также как и смысловое поле.
Нам остается сделать последний шаг и постулировать, что смысловое поле и квантовый мир (Квантовый кристалл) – суть одно и то же. В таком случае ничто не мешает нам рассматривать квантовый мир (Квантовый кристалл) как непосредственную компоненту смыслового поля. Здесь нужно вспомнить, что интегральное содержание “смыслового поля“, как мы установили выше, — это “множество возможных миров“ (“Умопостигаемый универсум“) в котором изначально содержится все, что вообще возможно помыслить. Но помыслить можно и то, что физически не возможно. Следовательно, Квантовый кристалл, описывающий лишь универсум физически возможных событий, не может быть тождественен смысловому полю в целом. Он соответствует лишь той части смыслового поля, которая содержит в себе потенции физически реального мира и которая занимает внутри смыслового поля особое положение в связи с тем, что только внутри Квантового кристалла возможны процессы актуализации (что соответствует тому факту, что чтобы мы себе не воображали в мышлении, но в сфере чувственного восприятия мы всегда обнаруживаем себя внутри одного и того же “выделенного“ (из числа возможных) мира, подчиненного известным нам физическим законам). “Сами вещи“ этого выделенного мира, в таком случае, непосредственно совпадают с квантовыми потенциями, а “видение вещей“ — с актуализацией соответствующих квантовых потенций сенсориума в процессе чувственного восприятия, который осуществляется в индивидуальном сознании.
Предложенную концепцию сознания можно философски истолковать двояко: либо в духе “идеализма“, либо в духе некоего “объективизма“. В первом случае сама физическая реальность (квантовый мир) оказывается “внутри“ сознания – в качестве некой базовой компоненты смыслового поля, а во втором – само сознание можно рассматривать как систему отношений, реализуемых внутри бытия (выходящую, однако, за пределы известной нам “физической реальности“). В первом случае мир находится в сознании, а во втором – сознание находится в мире. На самом деле обе эти интерпретации фактически утверждают одно и то же: мир и сознание не тождественны, но и неотделимы друг от друга. И мир обнаруживает себя в сознании (в качестве части смыслового поля), и сознание обнаруживает себя в мире (на уровне чувственного восприятия). Сознание не может существовать без мира (ибо лишается предмета осознания), и мир без сознания лишается актуального бытия, превращается в мертвый и неподвижный “Квантовый кристалл“.
В связи с изложенной концепцией может возникнуть следующее недоразумение. Могут спросить: если физический мир пребывает в нашем сознании, то отчего мы не облаем всезнанием относительно физической Вселенной? Можно указать две причины отсутствия всезнания. Во-первых, смысловое поле помимо потенций физической Вселенной, содержит в себе и потенции любых возможных миров и мы не можем априори знать в каком из возможных миров мы обнаружим себя на уровне чувственного восприятия (т.е. в какой части смыслового поля будут происходить процессы актуализации содержания этого поля). Иными словами, чистое мышление действует лишь в мире потенций и способно различать только возможное и не возможное (то, что существует в составе смыслового поля и то, что в нем не существует). Но мышление не способно априори установить, что из возможного становится действительным (актуальным). Последнее можно установить только на уровне чувственного восприятия. Именно поэтому физика неизбежно является опытной наукой и не может быть создана априори. Вместе с тем, существуют вполне содержательные науки, предметом исследования которых как раз и является априорная структура смыслового поля. Это математика и логика. Эти науки исследуют: что вообще возможно и что вообще не возможно и имеют лишь косвенное отношение к действительности (миру в котором осуществляются актуализации). То, что эти науки вполне объективны, содержательны и содержат всеобщие, необходимые и общезначимые истины – также указывает нам на надындивидуальный статус смыслового поля. Вторая причина отсутствия всезнания заключается в том, что простое пребывание некоторого смыслового содержания в сознании не гарантирует автоматически, что это содержание может быть осознано (актуализировано), отрефлексировано и как-то разумно использовано. Последнее, в частности, зависит от характера функции сознания, к исследованию который мы теперь должны приступить.
Ясно, что сознание существует не просто как некое бесполезное украшение, оно должно выполнять какую-то полезную для его носителя работу, осуществлять какие-то важные функции. Интуитивно кажется очевидным, что сознание – это и есть то во мне, что воспринимает, мыслит, понимает и принимает на основе понимания и осмысления воспринятого важные поведенческие решения. Однако выше мы, вслед за Менским, связали процесс осознания исключительно с актуализацией квантовых альтернатив. При этом действие сознание сводится исключительно только к селекции элементов квантовой суперпозиции состояний человеческого мозга, выделению (“маркировке“) одного из элементов этой суперпозиции и его актуализации (которая тождественно чувственному восприятию этого элемента). В силу требования самосогласованности, последующие актуализации зависят от предшествующих, что и создает иллюзию “редукции состояния“. Т.о. действие осознания сводится к редукции состояния. Но редукция, согласно принципам квантовой механики, осуществляется случайным образом (с учетом, однако, весовых коэффициентов, приписываемых членам суперпозиции). Тогда получается, что функция сознания, образно говоря, сводится к “бросанию игральных костей“ и, затем, “маркировке“ случайным образом выбранного элемента суперпозиции. Ясно, что этого не достаточно, чтобы утверждать, что сознание “что-то осмысляет“, “понимает“ или “принимает решение“. Конечно и такая примитивная функция “случайного выбора компоненты суперпозиции и редукции остальных членов“, как заметил Менский [124], также весьма полезна для живого организма, поскольку она (в силу наложенных ограничений самосогласованности и интерсубъективности) ведет к стабилизации и преемственности видимой картины окружающего мира. Только в таком относительно предсказуемом и последовательном мире организм может разумно действовать и выживать. Заметим, что если не учитывать процессов редукции волновой функции, а также учесть, что частицы, составляющие наше тело и окружающие предметы, существуют с момента зарождения нашей Вселенной, то тогда необходимо будет признать, что и наше тело, и другие предметы существуют как нечто компактное и сложно организованное лишь в интерсубъективном восприятии, а «сами по себе» являются чем-то вроде «туманных облаков», «размазанных» практически по всей Вселенной. Лишь многочисленные акты выбора (вероятно предшествующие и нашему рождению и, возможно, даже моменту зарождения жизни на Земле), сопряженные с восприятиями, «вылепили» из этих «облаков» сложные и компактные объекты, какими мы их видим в данный момент времени. Однако такого рода “стабилизация и локализация картины мира“ не может быть основной и единственной функцией сознания.
Если сознание действительно является субъектом осмысления, понимания и принятия решения, то оно должно не просто “бросать кости“ и “маркировать“ выбранное состояние (переводя его в акт, т.е. в чувственно воспринимаемое состояние), но должно быть способно также и осуществлять селекцию состояний осознанно, разумно и целесообразно. Если такие разумные и целесообразные выборы отнести к процессу чувственного восприятия окружающего мира, то мы приходим к весьма фантастической гипотезе, что сознание способно целенаправленно влиять на выбор реальности, т.е. способно выбирать в акте осознания собственных чувственных восприятий ту компоненту суперпозиции, которая по каким-то причинам представляется более привлекательной, предоставляет субъекту больше возможностей и т.п. Такая способность была бы равносильна наличию у человека магических способностей, которые позволяли бы ему управлять собственной судьбой. Не отрицая принципиальную возможность существования такого рода способностей, следует, однако, признать, что если они и существуют, то проявляются очень редко и только у отдельных людей (магов, экстрасенсов). Следовательно, такие способности нельзя считать значимыми для определения характера обычного функционирования сознания.
Функция сознания, очевидно, не сводится к функции восприятия. Сознание, как уже отмечалось, не только воспринимает, но и понимает воспринятое и на основе этого понимания принимает осознанное поведенческое решение. Таким образом, несколько упрощая описание, можно сказать, что функция сознания состоит из трех компонент: функции осознания чувственно воспринятого, функции понимания (и связанного с ним осмысления) и функции осознания принятого решения. Функция понимания-осмысления сама по себе не является осознанием (актуализацией), поскольку элементы смыслового поля, с которыми она работает, так и остаются в сфере “потенциального“ и актуализируются, видимо, только через осознание поведенческого выбора (поскольку только по поведению человека можно судить: что и как он понимает и осмысливает). Т.о. если нас интересует только функция осознания, мы должны свести ее к двум компонентам: “функции осознания воспринятого“ (обозначим ее F1) и комбинированной функции “понимания и принятия решения“ (обозначим ее F2). Предположим, что восприятием в мозге заведует некий центр восприятия, который мы ранее назвали “сенсориум“. Принятием же решений заведует некий гипотетический “командный центр“, также локализованный (не обязательно компактно) внутри мозга. Согласно нашей модели F1 занимается селекцией (“маркировкой“) квантовых состояний “сенсориума“, а F2 – селекцией квантовых состояний “командного центра“.
Схематично функцию сознания можно описать следующим образом. Представим взаимодействие мозга и остальной части квантовой Вселенной как процесс квантовомеханического измерения. Пусть состояние Вселенной до взаимодействия с мозгом описывается вектором состояния |Ф>. Состояние мозга до воздействия на него Вселенной обозначим |М>. Состояние |М> в основном определяется состоянием “сенсориума“ (обозначим его |S>) и “командного центра“ (обозначим его |R>. Предположим, что мозг вначале воспринимает состояние окружающего мира, а затем принимает решение “как жить дальше“. На первом этапе Вселенная взаимодействует с “сенсориумом“. Предположим, также, что это взаимодействие эквивалентно измерению, способному различить два альтернативных состояний Вселенной |Ф1> и |Ф2>. Тогда в результате этого взаимодействия исходное состояние |Ф>|S> преобразуется в суперпозицию с1|Ф1>|S1> + с2|Ф2>|S2>, где |S1> — описывает состояние “сенсориума“: “субъект увидел Вселенную в состоянии |Ф1>“, а |S2>, соответственно, описывает состояние: “субъект увидел Вселенную в состоянии |Ф2>“. Далее включается в действие функция осознания F1, которая, никак не влияя на физический процесс, просто “выделяет“ (“маркирует“) случайным образом (но с учетом значения коэффициентов с1 и с2) одну из компонент суперпозиции. (Учет коэффициентов с1 и с2 заключается в том, что при многократном повторении данной ситуации, F1 будет с вероятностью |с1|2 будет маркировать первую компоненту суперпозиции и с вероятностью |с2|2 – вторую). Действие F1 сопровождается актуализацией (чувственным восприятием) той компоненты, которая была “маркирована“ (например, если “маркирована“ первая компонента суперпозиции, то субъект видит, что Вселенная находится в состоянии Ф1). Но, поскольку, как было сказано, актуализация никак не влияет на физические состояния, квантовые процессы в мозге продолжают развиваться так, как если бы никакой актуализации не происходило вовсе.
На втором этапе “сенсориум“ через ряд промежуточных процессов оказывает воздействие на “командный центр“, информируя его о состоянии окружающего мира. Предположим, что “командный центр“ при любом наблюдаемом состоянии Вселенной может генерировать две альтернативные команды r1 и r2. Предположим, также, что до взаимодействия с “сенсориумом“ “командный центр“ находится в состоянии суперпозиции |R> = с1 |R1> + с2 |R2>, где |R1> — соответствует команде r1, а |R2> — команде r2. Взаимодействие “сенсориума“ и “командного центра“ порождает новую суперпозицию c1 |Ф1> |S1> |R1> + c2 |Ф1> |S1> |R2> + c3 |Ф2> |S2> |R1> + c4 |Ф2> |S2> |R2> , которая содержит все возможные комбинации результатов восприятия состояния внешнего мира и восприятия решений, принимаемых “командным центром“. Далее включается функция осознания F2, которая, опять-таки, никак не воздействуя на реальные квантовые процессы (которые продолжаются своим чередом и порождают суперпозицию альтернативных действий субъекта, реализующих решения r1 и r2 и т.д.) актуализирует (“маркирует“) одну из этих четырех компонент, делая ее, таким образом, чувственно воспринимаемой.
Если F1 осуществляет выбор чисто случайно, то F2 осуществляет выбор актуализированной компоненты “осознанно“, т.е. разумно, целесообразно, учитывая возможные последствия данного выбора и т.д. Выбор осуществляется на основе понимания (схватывания смысла) воспринимаемой информации и понимания значимости предполагаемого действия. Следовательно, функция осознания F2 соотносит рассматриваемую суперпозицию с состоянием смыслового поля в целом, выходя, таким образом, за пределы возможностей физического мозга. При этом F2 учитывает результаты предшествующих актуализаций, т.е., в отличие от физических процессов, отличает ранее “маркированные“ ветви квантовых процессов, от “немаркированных“. (Эта способность позволяет сознанию отличать действительно произошедшие (чувственно воспринятые) события от воображаемых). В частности, в соответствии с условием самосогласованности, F2 сразу же исключает из дальнейшего рассмотрения те ветви суперпозиции, которые ранее не были “маркированы“ F1. Если, например F1 маркировало |Ф1> |S1>, то компоненты |Ф2> |S2> |R1> и |Ф2> |S2>|R2> не будут приниматься во внимание и никогда не будут актуализированы. Используя способность различать “маркированные“ и “не маркированные“ состояния, F2 может выделить в составе смыслового поля (а именно внутри “Квантового кристалла“) прошлые физические состояния мозга данного индивида и черпать оттуда информацию, реализуя, таким образом, функцию памяти. (Следовательно, воспоминания совсем не обязательно должны во всем объеме содержаться в физическом состоянии мозга в каждый момент времени. Они могут быть распределены во времени и извлекаться непосредственно из прошлого).
Поскольку F2 осуществляет понимание и осознанный целесообразный выбор ответной реакции, то именно F2 и является подлинной функцией осознания. Результат действия F2 чувственно воспринимается субъектом как осознание ситуации в окружающем мире и выбор осознанного действия в этой ситуации. При этом вероятность актуализации той или иной компоненты суперпозиции уже не будет целиком определяться коэффициентами с1, с2, с3 и с4 (поскольку селекция альтернатив в данном случае осуществляется осмысленно и целесообразно, а не случайным образом). Действие F2 (в отличие от F1) будет, таким образом, создавать у воспринимающего субъекта иллюзию нарушения законов физики, которое он может истолковать как результат воздействия на мозг некой сторонней “надфизической“ силы, существенно изменяющей описываемое квантовой механикой физически детерминированное распределение вероятностей. Еще раз подчеркнем, что это “смещение вероятностей“ будет происходить лишь в восприятии субъекта (а также в восприятии других субъектов – в силу условия интерсубъективности), но не будет оказывать никакого воздействия на реальные физические процессы. (Проиллюстрируем это положение следующей аналогией. Предположим, я записываю результаты матчей моей любимой футбольной команды. Реально моя команда выигрывает лишь 20% матчей, а 80% — проигрывает. Однако я, как патриот своей команды, фиксирую в своих записях лишь половину проигрышей, а другую половину заменяю выигрышами, и в моих записях получается иная статистика: моя команда проигрывает лишь 40% матчей и выигрывает – 60%. Это, конечно, никак не отразится на реальном положении моей команды в турнирной таблице. Но человек, который будет судить об итогах турнира лишь по моим записям, очевидно, придет к выводу, что моя команда играет не так уж и плохо и выигрывает более половины матчей). Кроме того, необходимо потребовать, чтобы целесообразные акты селекции квантовых альтернатив строго касались лишь поведенческих альтернатив, но не альтернатив восприятия объектов внешнего мира, иначе была бы возможна мгновенная коммуникация между субъектами с помощью пар «запутанных» частиц и мы вошли бы в противоречие с теорией относительности.
Получается, что всякое наше действие, которое представляется нам осознанным и разумным (производится именно нашим “Я“, а не телесной автоматикой), является таковым лишь в нашем восприятии. Чисто физически наше тело “осуществляет“ (в потенциальном плане, конечно) сразу все действия (и разумные и не разумные), которые ему предписывают законы квантовой физики. Например, если в меня летит камень, и я осознанно уклоняюсь от столкновения с ним, то это действие чисто физически существует в составе суперпозиции с другими возможными действиями, часть которых менее разумны и ведут к повреждению моего организма. Однако мое сознание чувственно воспринимает только то действие, которое представляется мне наиболее осмысленным, разумным и целесообразным. В силу же условия самосогласованности только это действие будет зафиксировано в памяти, а также в силу условия интерсубъективности – зафиксировано в восприятии и памяти других субъектов.
Поскольку мои “несостоявшиеся восприятия“ и “неосуществленные действия“ никуда не исчезают и продолжают существовать “в потенциальном плане“ (в составе “Квантового кристалла“), у нас вновь возникает призрак “двойников“, существующих в “потенциальных параллельных мирах“. Однако, эти “двойники“ существуют лишь как компоненты смыслового поля, выполняющие весьма важные функции. “Несостоявшиеся восприятия“ позволяют нам мыслить окружающий нас мир в системе альтернатив (т.е. мы понимаем, что наши восприятия могли бы быть какими-то иными), а “неосуществленные действия“ — позволяют мыслить собственные действия как осуществляемые на основе свободного выбора из совокупности известных альтернатив (если мы не видим альтернатив – то нет и ощущения свободного выбора).
Важно отметить, что в данной модели функция сознания представляется чем-то вполне простым, лишенным какого-либо внутреннего механизма. За действием селекции альтернативы, осуществляемым сознанием, не стоят какие-либо “колесики“ или “шестеренки“. Сознание осуществляет это действие “спонтанно“, т.е. прямо и непосредственно и действие это сводится к выбору альтернативных элементов смыслового поля, подлежащих актуализации. Только в восприятии внешнего мира этот выбор осуществляется случайно, а в восприятии собственных действий – целесообразно. (Целесообразная детерминация восприятия собственных действий, видимо, осуществляется на уровне некоего внутреннего чувства (возможно относимого к кинестетической модальности), которое в свою очередь, в силу принципа самосогласованности, определяет и характер зрительного и прочего дистантного восприятия этих самых действий). При этом функция сознания непосредственно совпадает с динамикой чувственных феноменов и, следовательно, выполняется обоснованное выше условие сущностного тождества функции и феноменологии сознания
Здесь неизбежно возникает вопрос: почему выбор альтернативы в восприятии внешнего мира осуществляется случайно, а в восприятии собственных действий – он осуществляется целесообразно (не случайно)? На этот вопрос можно ответить исходя из требования одинаковости (интерсубъективности, общезначимости) восприятия мира различными субъектами. Действительно, требование интерсубъективности означает, что выбор альтернативы, сделанный одним наблюдателем, автоматически значим для всех прочих наблюдателей. Следовательно, выбор той или иной альтернативы определяется тем наблюдателем, который первым «увидел» данное событие. Однако если событие происходит на некотором ненулевом расстоянии от любых возможных наблюдателей, то, согласно принципам теории относительности, определить какой из наблюдателей воспринял данное событие первым – не представляется возможным – поскольку не существует абсолютной одновременности разнесенных в пространстве событий. Т.е. в разных системах отсчета “первыми“ данное событие будут воспринимать различные наблюдатели. Если же при этом селекция альтернативы осуществляется целесообразно – то неизбежен конфликт восприятий и, следовательно, нарушение принципа интерсубъективности. Следовательно, селекция альтернативы должна осуществляться независимо от воли конкретного наблюдателя – например, случайным образом. Только в этом случае конфликт восприятий отсутствует. Иначе обстоит дело в случае восприятия собственных действий. Здесь селекция альтернативы осуществляется на уровне восприятия состояния “командного центра“, расположенного внутри мозга, который непосредственно причинно инициирует соответствующее сделанному выбору действие. Естественно предположить, что в данном случае пространственная дистанция между событием (выбором альтернативного действия) и наблюдателем равна нулю (т.е. наблюдатель пространственно совмещен с “командным центром“). Следовательно, в любой системе отсчета я всегда буду первым воспринимать суперпозицию состояний “командного центра“, которая описывает спектр моих возможных действий, и мой целесообразный выбор восприятия того или иного действия будет значим для любых внешних наблюдателей без всякого противоречия с их собственными восприятиями.
Не следует думать, что наше поведение целиком определяется целесообразной “селекцией альтернатив“, осуществляемых функцией осознания. Во-первых, осознание может выбирать только из тех вариантов возможных действий, которые предоставляет ему физический мозг. Если, к примеру, суперпозиция, с которой работает F2, состоит из одной компоненты, то осознанию ничего не остается кроме как просто “утвердить“ то решение, которое принимает физический мозг. В этом случае поведенческое решение принимается чисто автоматически, без участия осознания. Но даже если осознание участвует в осуществлении выбора, его действие накладывается на физическую функцию мозга, т.е. принимаются во внимание также и коэффициенты, отражающие вероятности компонент суперпозиции. Т.о. психические функции являются продуктом совместной деятельности физического мозга и процесса осознания. Можно предположить, что если бы мы могли как-то “выключить“ функцию осознания F2 (точнее, заменить целесообразную селекцию случайным выбором, как в случае функции F1) – это не сделало бы наше поведение абсолютно хаотическим и бессмысленным. Мозг сам по себе, в силу своего устройства вырабатывает достаточно целесообразные и достаточно “разумные“ решения. Осознание абсолютно необходимо только в тех случаях, когда мозг не имеет врожденных или заранее выученных поведенческих программ, позволяющих ему адекватно реагировать на ситуацию. Т.е., иными словами, сознание связано с любыми элементами творчества в нашем поведении, а там где творчество не является необходимым, осознание не играет особо важной роли. Можно сказать, что осознание особым образом “модулирует“ работу мозга (однако лишь на уровне субъективного восприятия работы физического мозга) – придавая функции мозга большую пластичность и творческое начало, а с другой стороны, и мозг (точнее “маркированная“ часть состояний физического мозга – что соответствует образу мозга в нашем восприятии и памяти) определенным образом “управляет“ функцией осознания (поскольку для осознания имеет значение “маркировка“ элементов смыслового поля).
Напомним, что согласно нашей философской концепции мир природы мыслится как система ограничений, которые сознание (как абсолютное бытие) накладывает само на себя. Особую роль в этой системе ограничений играет наше тело и мозг. Тело ограничивает возможность осознанной селекции альтернатив определенным местом (занимаемым нашим телом) и временем. Мозг, с этой точки зрения, есть как бы некий “фильтр“, ограничивающий спектр альтернатив (изначально содержащихся в составе смыслового поля) с которыми способно актуально работать наше сознание в плане осуществления, в частности, таких психических процессов, как восприятие, мышление и память. Восприятие ограничивается только тем содержанием, которое нам предоставляют органы чувств. Что касается мышления и памяти, то налагаемые на них мозгом ограничения служат средством существенного повышения эффективности этих психических процессов. Действительно, функция осознанного мышления заключается в поиске оптимального решения тех или иных задач, т.е. в выборе правильного решения из множества предзаданных альтернатив. Мозг, воплощая в своей конструкции результаты миллионов лет эволюции, содержит в себе механизм ограничивающий спектр альтернатив, рассматриваемых нашем сознанием, что существенно повышает эффективность работы мышления. Можно сказать, что сокращая число возможных вариантов, мозг тем самым обеспечивает “экономию мышления“ (как бы подсказывая нам: где искать правильный ответ), что значительно повышает эффективность нашего разума. Таким образом, сокращая число (рефлексивно) доступных для нашего сознания вариантов выбора, мозг выступает в роли орудия, многократно усиливающего мощь нашего мышления в плане осуществления правильного поведенческого выбора. При этом, однако, может несколько снижаться способность к нахождению неординарных, нетривиальных творческих решений. В отношении памяти мозг также представляет собой “фильтр“, ограничивающий доступ к одним элементам прошлого опыта и облегчающим доступ к другим (более важным с поведенческой точки зрения) его элементам. Тем самым выстраивается иерархическая организация памяти, опять-таки существенно облегчающая возможность ее практического использования.
Из нашей гипотезы связи осознания с квантовым процессом редукции вектора состояния следует, в частности, что обработка информации в мозге (например, при решении задачи смыслового распознавания стимула) должна проходить фазу “суперпозиции“, когда все возможные семантические направления процесса распознавания реализуются одновременно. Осознание же нарушает этот процесс, выбирая (целесообразно — т.е. на основе прошлого опыта, умозаключения и т.п.) лишь одно из направлений интерпретации данного стимула. Ясно, что непосредственно увидеть эти суперпозиции невозможно, так как любое внешнее наблюдение также будет вызывать коллапс вектора состояния – сведение его к одному члену. Поскольку наблюдение внешнее – выбор будет осуществляться чисто случайно. (Отсюда следует, что любые попытки наблюдать извне — как зарождается осознанное решение должны существенно нарушать работу сознания. Поскольку обычные нейрофизиологические исследования (типа регистрации ЭЭГ или вызванных потенциалов) такие нарушения не вызывают, то это означает, что квантовые суперпозиции в мозге разрушаются (путем осознания) еще на уровне микропроцессов, происходящих, возможно, внутри нервных клеток или на уровне синапсов или же охватывающих очень ограниченные объемы нервного вещества – тогда как любые макроскопические нервные процессы, охватывающие большие массы нейронов, несут в себе уже готовое однозначное осознанное решение и никакие макроскопические суперпозиции нервных состояний в мозге не возникают).
Однако наличие суперпозиций в когнитивных процессах распознавания стимулов можно обнаружить косвенно, используя метод обратной маскировки, способный, видимо, прервать нервные процессы еще до стадии осознанного выбора и таким образом сохранить суперпозиционное состояние. Так в опытах Марселя (1983) [цит. по 219 c.75] испытуемым предъявляли последовательно три слова и измеряли скорость распознавания третьего слова в зависимости от семантического значения двух первых слов. Если первым на надпороговом уровне предъявлялось слово “дерево“, а за ним многозначное слово “palm“ (анг. “пальма“ и “ладонь“), то распознавание третьего слова “запястье“ существенно замедлялось по сравнению с нормой. В то же время “запястье“ распознавалось быстрее нормы, если первое предъявленное слово было “рука“. Однако если слово “palm“ маскировалось так, что оно было значительно ниже порога осознанного восприятия, то распознавание слова “запястье“ ускорялось по отношению к норме независимо от того предъявлялось ли первым слово “дерево“ или “рука“. Это означает, что до момента осознания обработка семантической информации осуществляется сразу во всех возможных направлениях, тогда как осознание разрушает (фактически аннулирует) этот процесс, сохраняя лишь одну избранную им линию интерпретации, которая затем и оказывает специфическое воздействие на восприятие последнего тестового слова. Т.о. эти опыты явно показывают, что до осознания процессы в нервных центрах протекают по квантовым законам – сразу во всех возможных направлениях, тогда как осознание редуцирует эту суперпозицию возможных действий нервной системы в ответ на стимул к одной единственной альтернативе.
Предложенная концепция “сознания в квантовом мире“ разрешает основные концептуальные проблемы, которые возникают как в связи и анализом психофизического отношения, так и в связи с проблемой измерения в квантовой механики. Анализ проблемы измерения ведет к двум противоречащим друг другу выводам:
1.Сознание (наблюдателя) неизбежно должно учитываться в физической картине мира.
2.Сознание не может быть описано и объяснено с помощью математического аппарата квантовой теории.
К аналогичному парадоксу ведет и анализ психофизического отношения. Здесь мы также получаем противоречие:
1.Сознание должно действовать в физическом мире.
2. Физический мир причинно замкнут (в силу действия законов сохранения) и, следовательно, воздействие сознания на физические процессы не возможно.
Оба этих противоречия в нашей модели легко разрешаются. Сознание не описывается в рамках физического формализма, но оно должно учитываться при анализе чувственного восприятия физической реальности. Сознание не действует на физические процессы, но, действуя на восприятие физической реальности, создает иллюзию психофизического взаимодействия. Всякое действие сознания в мире сводится лишь к выбору и актуализации тех компонент Универсума возможного (внутри “Квантового кристалла“), в которых это действие уже физически осуществлено. (Например, мое сознание не действует на мою руку, набирающую данный текст, но лишь актуализирует ту часть Универсума возможного, в которой я уже заранее “изображен“ набирающим этот текст. Сознание просто выбирает ту часть реальности, в которой мое тело осуществляет желаемое мною действие).
По существу физика дает нам двухуровневое описание реальности. Фундаментальные уравнения описывают структуру “Квантового кристалла“ как он существует сам по себе безотносительно к нашим восприятиям. (Такое описание возможно постольку, поскольку “Квантового кристалл“ является частью смыслового поля и, следовательно, непосредственно доступен нашему разуму). Поскольку фундаментальные уравнения обратимы во времени, то Вселенная на этом уровне ее описания (“умопостижения“) выглядит как некое сверхвременное целое, лишенное какого-либо выделенного направления эволюции во времени (т.е. отсутствует “стрела времени“). Однако когда мы хотим согласовать эту статичную картину Вселенной с тем, что мы непосредственно наблюдаем вокруг себя, то нам необходимо учесть активную роль сознания в формировании чувственного образа физической реальности, а именно те самые случайные и целесообразные процессы селекции альтернативных компонент суперпозиции. Селекция альтернативы – это необратимый процесс (поскольку исключается доступ к “немаркированным“ ветвям суперпозиции). Следовательно, есть все основания полагать, что необратимость в наблюдаемой нами картине Вселенной – это следствие именно того, что мы воспринимаем статичную и симметричную относительно обращения времени структуру “Квантового кристалла“ через призму собственного восприятия. Только в нашем восприятии существует необратимое течение времени, т.е. однозначная направленность потока событий из прошлого в будущее. Следовательно, и необратимый рост энтропии (согласно второму закону термодинамики) – также существует только в нашем восприятии. Рост энтропии, очевидно, связан со случайной селекцией альтернативы, характерной для восприятия внешнего мира. Напротив, процесс целесообразной селекции альтернатив, касающийся восприятия наших собственных действий, можно квалифицировать как антиэнтропийный процесс – поскольку он в конечном итоге порождает высокоупорядоченные низкоэнтропийные культурные артефакты. Отсюда следует, что везде, где мы усматриваем антиэнтропийные процессы (возникновение жизни, эволюция видов и т.п.) – следует предположить существование процессов общезначимой селекции альтернатив, обусловленных чем-то подобным нашему сознанию.
Таким образом, концепция, отождествляющая осознание с процессом селекции альтернативы в квантовом измерении, – позволяет (как, в частности, отмечает и М. Менский) разрешить еще одну фундаментальную проблему физики: как совместить симметричность относительно обращения времени фундаментальных уравнений физики и термодинамическую необратимость реально наблюдаемых физических процессов. (Отметим, что связь между термодинамической необратимостью и процессами редукции волной функции исследовал еще в 80-х годах М.Б. Вайнштейн [27]).
Предложенная концепция, вместе с тем, не является чисто метафизической конструкцией. Из нее можно вывести ряд следствий, которые можно подтвердить или опровергнуть с помощью опыта. Перечислим эти следствия.
1. Из нашей концепции непосредственно вытекает, что высшие психические функции (мышление, воля, осознанное восприятие, понимание и др.) не могут быть объяснены исключительно как функции воспринимаемого нами “физического“ мозга. Следует ожидать, что изучение функциональных возможностей мозга рано или поздно приведет нас к выводу, что они (эти возможности) явно не достаточны для того, чтобы объяснить то сложное, целесообразное, содержащее элементы творчества поведение человека, которое мы наблюдаем в реальности. Например, мы можем прийти к выводу, что мозг не обладает достаточным быстродействием, достаточным объемом памяти, достаточной пластичностью, не обладает способностью создавать новые алгоритмы поведения. В таком случае мы должны предположить существование особого “трансцендентного фактора“, модулирующего работу мозга и таким образом участвующего в осуществлении психических функций. Причем фактор этот таков, что его невозможно вписать в известную нам физическую картину мира. В отношении мышления необходимость введения трансцендентного фактора, связанного с процессом осознанной селекции квантовых альтернатив, можно связать с проблемой “комбинаторного взрыва“, который неизбежно возникает, когда мы сталкиваемся с процессами понимания чего-либо (например, естественного языка или понимании той или иной жизненной ситуации и т.п.). Понимание (осмысление), как мы видели, требует соотнесения объекта понимания с множеством встроенных друг в друга контекстов, составляющий в совокупности “интегральную картину мира“ данного субъекта (в состав которой, в идеале, входят, также и “возможные миры“). Иными словами, для того, чтобы понимание состоялось, объект понимания должен быть соотнесен со множеством элементов окружающего нас мира (или элементов нашего собственного опыта), причем должен быть соотнесен не только с отдельными элементами, но с со всевозможными их комбинациями (отражающими, например, тенденции развития воспринимаемой ситуации или возможные предыстории данной ситуации и т.п.). Ясно, что в этих условиях, даже если число релевантных элементов конечно, количество необходимых для осуществления понимания соотнесений будет расти экспоненциально при линейном росте размерности (числа элементов) смыслового поля, внутри которого происходит данный акт понимания. Мозг человека обладает ограниченной вычислительной мощностью (по некоторым оценкам она составляет 10^14 -10^16 оп/сек) и вряд ли способен самостоятельно “просчитать“ все варианты контекстуальных соотнесений, необходимых, например, для понимания естественного языка или для понимания тенденций развития некой реальной проблемной ситуации. Трансцендентная составляющая мышления (связанная, по нашей гипотезе, с процессом целесообразной селекции квантовых альтернатив) необходима, т.о. именно для того, чтобы справиться с “комбинаторным взрывам“ и выбрать, в идеале, тот вариант действия, который основан на глубоком и всестороннем понимании ситуации и является оптимальным с точки зрения целей субъекта. Поскольку, однако, осознание способно выбирать лишь из тех вариантов возможного поведения, которые входят в суперпозицию, создаваемую мозгом, глубина нашего понимания оказывается функционально ограниченной, а выбор действия не всегда оптимален. Тем не менее, “вычислительная“ мощность мозга, благодаря участию “трансцендентного фактора“, вероятно, возрастает настолько, что, можно предположить, что компьютерная имитация его деятельности окажется принципиально невозможной, прежде всего, в силу физических причин, ограничивающих максимальную вычислительную мощность даже квантовых компьютеров (по последним оценкам предельная вычислительная мощность компьютера любой конструкции не может превышать 10^24 оп/сек [308]).
2. О памяти нужно сказать отдельно. Из нашей модели сознания следует, что функция осознания может черпать информацию отовсюду, из любых частей смыслового поля. В частности, может извлекать ее из прошлых состояний мозга. В таком случае значительная часть памяти может функционировать по механизму “прямого доступа к прошлому“, что не требует длительной фиксации воспоминаний в физиологическом субстрате. Память может быть как бы “размазана“ во времени и, следовательно, может существовать трансцендентно по отношению к актуальному состоянию физического мозга. Эту гипотезу можно вполне опытно проверить. Мы можем оценить объем памяти с психологической точки зрения и, также, оценить информационную емкость мозга как “запоминающего устройства“. Если предположить, что человек помнит абсолютно все, что с ним происходит при жизни (а в пользу этого говорят некоторые данные психологии, о которых мы писали выше [325]), то общий объем только сенсорной информации, накопленной личностью за 60 лет, оценивается величиной порядка 10^17 – 10^20 бит. Если, как полагают многие современные исследователи, долговременная память фиксируется путем изменения активности синаптических контактов (а также путем образования новых синаптических связей), то нагрузка на один синапс представляется непомерно большой. Действительно, в мозге не более 10^13 –10^14 синапсов, что даже при минимальной оценке объема накопленной информации за 60 лет (10^17) дает на один синапс 10^4 или 10^3 бит. Трудно представить, чтобы один синапс мог каким-то образом хранить не менее тысячи бит информации. На самом деле данные нейрофизиологии показывают, что информационная емкость нейронных сетей вряд ли превышает 1 бит на 10 нейронов, так что максимальный объем информации, которую может физически “записать“ мозг, не превышает, видимо, 10^9 — 10^10 бит. Ввиду этих фактов “трансцендентный“ (распределенный во времени) механизм памяти уже не представляется чем-то невероятным. Заметим, также, что классические, восходящие к работам Хебба представления о работе памяти оказались существенно поколеблены в последнее время. По Хеббу, процесс запоминания делится на две стадии: стадию кратковременной памяти, которая обеспечивается посредством реверберации нервных импульсов в нервной сети, и стадию консолидации, которая связана с изменением связей между нейронами (изменения продуктивности синапсов, образование новых синапсов и коллетералей), что предполагает серьезные биохимические перестройки, связанные с синтезом белков. Ранние эксперименты с электрошоком и подавлением синтеза белка во время обучения – вроде бы подтверждали эту модель. И электрошоковое воздействие сразу после сеанса научения, и лекарственное подавление синтеза белка делали обучение невозможным. Однако в последнее время появились данные о возможности восстановления кратковременной памяти, стертой электрошоком или даже гипотермией (охлаждением мозга). Восстановление было, правда, частичное и нестойкое. Но в любом случае, циркулирующий нервный импульс никак не может пережить воздействие, полностью угнетающее электрическую активность мозга. Это означает, что уже на стадии кратковременной памяти существует что-то, что способно пережить “выключение“ электрических функций мозга. Также и Хеббовские представления о консолидации памяти не согласуется с рядом надежно установленных экспериментальных данных. В некоторых экспериментах было показано, что долговременная память при некоторых формах обучения оказалась устойчивой к аноксии мозга и действию электрошока [Bolduin, Soltysik, 1965; Squire, 1986]. Полная блокада синтеза белка в головном мозге также не всегда нарушала консолидацию памяти (Laudein et al., 1986; Staubli et all., 1985, см.: [160]). При научении с минимальным интервалом между пробами подавление синтеза белка не нарушало сохранение информации в течение нескольких дней (Tully et all., 1994, см.: [160]). Исходя из того, что подавление синтеза белка в мозге во время научения не всегда нарушает сохранение информации, мы неизбежно приходим к заключению, что существует некая “сверхбыстрая“ фаза консолидации долговременной памяти, которая вовсе не требует участия синтеза белков. Для такой сверхбыстрой консолидации необходимы особые механизмы, которые гипотетически можно отождествить с “трансцендентной“ памятью, связанной с механизмом “селекции квантовых альтернатив“, осуществляемых сознанием – поскольку этот механизм вообще не требует какой-либо “записи“ информации в нервной ткани. Информация здесь может непосредственно извлекаться из прошлых состояний мозга. Эксперименты показывают, что такой “трансцендентный“ механизм памяти вероятно существует уже у животных. Как же объяснить более ранние положительные эксперименты, как будто подтверждающие схему Хебба? Очевидно, у животных и у человека существует несколько различных видов памяти. Существует “имманентная“ живому мозгу система памяти, действительно связанная с нейрональной (прежде всего синаптической) пластичностью. Такой механизм подробно исследован на беспозвоночных животных, а также в культуре тканей высших животных. Вероятно, он есть и у человека. Это то, что А. Бергсон назвал “памятью тела“, а в современной психологии связывается с “процедурной“ памятью (память типа условных рефлексов, выработки навыков и т.п.). Но существует и иной, “трансцендентный“ механизм памяти, который у человека соответствует семантической и эпизодической памяти. (“Память духа“ по Бергсону). Обе эти “трансцендентные“ формы памяти работают весьма различно. Семантическая (смысловая) память не требует какого-либо “оживления“ следов памяти. Выбор альтернативы здесь осуществляется на основе прямого соотнесения актуальной ситуации выбора с прошлым, без восстановления этого прошлого в настоящем. Эпизодическая память (воспоминания) напротив предполагает воспроизведение “картин“ прошлого (с той или иной полнотой). Механизм “воспоминаний“ можно представить как двухэтапный процесс. На первом этапе некая нейрональная “сенсорная матрица“ (соответствующая модальности воспоминания) переводится в состояние суперпозиции всех возможных состояний сенсорного входа (для этой матрицы). На втором этапе – осуществляется целесообразный выбор одной из компонент суперпозиции – соответствующей нужному воспоминанию. Информация о нужном выборе также считывается из прошлого и, следовательно, также не требует формирования каких-либо постоянных “записей“ в мозге. (Сходным образом может работать и воображение. В этом случае информация может считываться также и с “немаркированных“ элементов смыслового поля. При этом, конечно, образы воображения не являются продуктами прямой актуализации элементов смыслового поля, но являются результатом актуализации опять-таки каких-то мозговых репрезентаций этих смысловых элементов. Этот процесс опосредованной актуализации элементов смыслового поля имитирует по своей форме чувственное восприятие, но, при этом, не связан непосредственно с реальным физическим восприятием внешнего мира, а связан именно с действием на внутримозговые механизмы процесса селекции альтернатив самого смыслового поля. Вероятно, подобный механизм воображения начинает действовать в полной мере только у человека). Семантическая и эпизодическая формы памяти в полной мере формируются только у человека (хотя, как показывают упомянутые исследования, имеют “прообраз“ у животных). Поэтому память человека должна качественно отличаться от памяти животных. Косвенно об этом говорит тот факт, что характерные для человека формы нарушения памяти: ретроградную и антероградную амнезию (связанные, вероятно, с нарушением связи мозга с “трасцендентной“ памятью) не удается воспроизвести в опытах с животными. Для достижения этой цели безуспешно применяли электрошок, местное электрическое раздражение (например, миндалин), быструю наркотизацию, полную или частичную функциональную декортикацию путем временной обработки коры головного мозга изотоническим раствором КО, сильное охлаждение коры, воздействие ацетилхолинэстеразы и ингибиторов синтеза белков. Известно, что клиническая патология мозга не столкнулась ни разу с явлениями нарушения долговременной памяти при очаговых поражениях мозга. (Амнезию вызывают лишь глобальные воздействия на мозг человека, наподобие сотрясений, электрошока, отравления). Также и эксперименты с повреждением или функциональным выключением различных (даже весьма значительных по объему) участков мозга животных (как корковых, так и подкорковых) показали, что хотя локальные повреждения мозга значительно замедляют образование новых условных рефлексов, но выработанные до операции рефлексы быстро и даже спонтанно восстанавливаются при первых же испытаниях. Это говорит о том, что оставшиеся сохранными участки мозга не утрачивают опыта обучения, и этот результат не зависит от того, какую структуру разрушали экспериментаторы [13 с. 247]. В целом в экспериментах с разрушением частей мозга животных разными исследователями было показано, что не существует критического места повреждения, исключающего вообще доступ к прошлым воспоминаниям. Т.е. в мозге нет никакого “центра хранения долговременной памяти“. Это свойство является общим для человека и животных. Следовательно, и эти данные подтверждают мысль, что и у животных существует некая “трансцендентная“ компонента памяти. Таким образом, рассмотренные данные показывают, что гипотеза “трансцендентной“ составляющей памяти представляется весьма перспективной и способна объяснить целый ряд особенностей памяти животных и человека.
3. Если функция осознания связана с селекцией квантовых альтернатив, то это означает, что в мозге должны иметь место реальные квантовые суперпозиции. Это, видимо, предполагает, что в мозге должны существовать какие-то существенно квантовые звенья (т.е. проявления феномена квантовой когерентности), связанные, предположительно, с процессами генерации потенциалов действия. Мы пока не знаем, существуют ли подобные процессы. Однако в литературе уже отмечалась роль квантовой когерентности в процессах фотосинтеза [358], так что гипотеза существования «квантовых звеньев» нервного процесса кажется вполне правдоподобной.
4. Если удастся строго научно доказать существование паранормальных психических феноменов (таких, как магия, психокинез, телепатия, ясновидение, медиумизм и т.п.), то это также будет важным аргументом в пользу нашей концепции. Действительно, данная концепция позволяет легко истолковать указанные феномены. Магия и психокинез, к примеру, могут быть следствием способности некоторых индивидов хотя бы отчасти управлять селекцией альтернатив в процессе чувственного восприятия окружающего нас мира (т.е. функцией F1). Далее, поскольку функция осознания F2 определяется состоянием всего смыслового поля в целом и способна учитывать уже произошедшие актуализации (т.е. отличать “маркированные“ состояния от “немаркированных“), то она способна черпать информацию отовсюду и не ограничена только показаниями органов чувств. В частности, требование интерсубъективности предполагает пронизанность смыслового поля нелокальными корреляционными связями (что дает объяснение существованию несиловых квантовых корреляций типа ЭПР-корреляций). Поэтому нет ничего удивительного, что сознание при определенных условиях может читать чужие мысли, видеть на расстоянии, общаться с умершими (последнее можно интерпретировать как контакт с прошлыми состояниями сознания других людей) и т.п.
Таким образом, предложенная концепция “сознания в квантовом мире“ принципиально допускает и верификацию и фальсификацию и, следовательно, вполне научна.
Нам осталось обсудить еще один важный вопрос. Согласно нашей модели процессы осознания неразрывно связаны с физическими процессами, происходящим внутри человеческого мозга. Точнее говоря, актуализация, по сути, и сводится к переводу в план чувственного восприятия физических состояний определенных мозговых структур: “сенсориума“ и “командного центра“. Естественно возникает вопрос: почему осознание связано именно с этими структурами, а не с какими-то другими? Почему осознание осуществляет селекцию квантовых состояний человеческого мозга, а не камня, например? Поскольку осознание в нашей модели не является физическим явлением, то кажется, на первый взгляд, бесполезным искать ответ на этот вопрос в анализе устройства человеческого мозга. Устройство мозга, кажется, столь же мало связанным с наличием осознания, как химический анализ металла связан с вопросом: почему из этого металла сделан, скажем, самолет, а не гараж.
Однако, это не совсем так. Во-первых, действие осознания требует существования макроскопически различимых квантовых суперпозиций. Это возможно, видимо, в двух случаях: такие суперпозиции могут возникать за счет усиления квантовых сигналов, отражающих на макроуровне события в микромире (примером здесь может служить знаменитый “кот Шредингера“) или же могут возникать макроскопические суперпозиции состояний каких-то многочастичных когерентных квантовых систем (типа сверхпроводников). (Заметим, что в первом случае усилителями квантовых сигналов могут служить нейроны, которые обладают спонтанной импульсной активностью, поскольку они большую часть времени находятся в неравновесном “околопороговом“ состоянии и, следовательно, вполне способны реагировать на события атомного и субатомного масштаба. Именно эти нейроны отвечают за гамма-ритмы мозга, которые, как показывают исследования, коррелятивно связаны с такими ключевыми для сознания функциями как внимание, мышление, память и воображение). Во-вторых, необходимо чтобы хотя бы часть альтернатив, из которых осуществляет выбор процесс осознания, соответствовала целесообразным и разумным действиям, которые можно было бы интерпретировать как проявления мышления и сознания. Т.е. система, в которой могло бы проявиться сознание, должна, по меньшей мере, обладать квантовыми свойствами и проявлять достаточно сложное и целесообразное поведение даже при условии “выключения“ селективной функции осознания. Учитывая это, мы могли бы предположить, что сознание может управлять любым процессом селекции альтернатив при условии, что эти альтернативы могут проявляться на макроуровне в виде альтернативных действий достаточно сложной системы, способной воспринимать окружающий мир и действовать в этом мире достаточно целесообразно. В таком случае мы можем ожидать, что созданный нами робот, в котором могут быть реализованы макроскопически различимые квантовые суперпозиции, может совершенно спонтанно обрести сознание, что можно было бы обнаружить по целесообразному систематическому смещению (по сравнению с расчетными величинами) распределения вероятностей реализации тех или иных членов данных суперпозиций.
Исключить такую возможность, конечно, нельзя, хотя она априори и представляется маловероятной. Ясно, что в абсолютном большинстве случаев процессы редукции вектора состояния никакой разумной селекции альтернатив не проявляют (иначе предсказания квантовой теории не подтверждались бы экспериментами). Поэтому и нет оснований думать, что подключение к тому или иному произвольно выбранному квантовому процессу сложной кибернетической машины автоматически сделает эту машину сознательной. Т.о. мы опять возвращаемся к исходному вопросу: почему одни квантовые процессы сопровождаются осознанной селекцией альтернатив, а другие – нет?
Поскольку объяснить физическими причинами это различие не представляется возможным, следует предположить здесь действие какой-то иной формы причинности. Сознание связано с целесообразностью, поэтому естественно предположить, что и выбор “места проявления“ осознания также осуществляется на основе целевой причинности. Иными словами, мы можем предположить, что процесс селекции альтернатив посредством осознания должно в конечном итоге привести “восприятие Вселенной“ к какому-то вполне определенному “конечному состоянию“. Действительно, сознание не может воздействовать на физический мир, но может посредством селекции альтернатив целенаправленно влиять на “восприятие Вселенной“ различными существами. Если существует какое-либо “предпочтительное восприятие Вселенной“, то процесс осознания можно представить как некое “блуждание“ “точки осознания“ внутри “Квантового кристалла“ в поисках той области внутри него, в которой это “предпочтительное восприятие“ оказывается реализованным.
Мы не можем достоверно знать каково это “предпочтительное конечное состояние“ (например, это может быть “состояние максимальной разумности“ или “полного самопознания Вселенной“), но, поскольку мы существуем, мы должны предположить, что достижение этого состояния на том или ином этапе требует существования разумных живых существ и, следовательно, требует создания этих разумных живых существ. Ранее мы отмечали, что функция осознания необходима в тех случаях, когда для решения стоящих перед субъектом задач требуется творчество. Способность к творчеству – объективный признак наличия сознания. Исходя из этого, можно предположить, что везде, где проявляется творчество – действует тот или иной процесс осознания. Продуктом творчества являются любые объекты, порождение которых невозможно объяснить чисто натуралистически, т.е. как результат действия только известных нам законов физики. Продуктом человеческого творчества является культура. Но и сам человек – тоже, видимо, есть продукт творчества, проявляющегося в самой природе. Человек – продукт эволюции живого. Но и сама жизнь, видимо, – продукт химической эволюции. Оба эти вида эволюции, как нам представляется, невозможно объяснить чисто натуралистически и, следовательно, в обоих случаях можно предположить участие осознания. Представляется весьма вероятным, что осознание (с помощью целесообразной селекции квантовых альтернатив) творчески управляет вначале химической эволюцией, “порождая“ жизнь, а затем направляет биологическую эволюцию – “порождая“, в конечном итоге, разумных существ. (Конечно, слово “порождение“ здесь не совсем подходит, поскольку, согласно нашей концепции, осознание ничего не создает и ничего не меняет в физическом мире, а лишь выделяет (“маркирует“), т.е. делает воспринимаемой ту часть “Квантового кристалла“, в которой уже изначально в качестве потенции содержится живое и разумное).
Таким образом, мы можем предположить, что одна и та же “творческая энергия осознания“ вначале “творит“ жизнь, затем направляет биологическую эволюция, “созидая“ разум, а затем концентрируется в индивидуальном человеческом сознании, “созидая“ культуру. (Вопрос о том, каким образом трансцендентный творческий фактор, направляющий эволюцию, может трансформироваться в трансцендентный фактор, направляющий творческую активность сознания, мы подробно рассмотрим в следующем разделе). В человеке “творческая энергия осознания“ предельно концентрируется и индивидуализируется. При этом многократно ускоряются темпы эволюции. Таким образом, мы можем предположить, что человек является важным звеном, необходимым для достижения конечной цели Вселенной и именно поэтому наш мозг является тем местом, в котором столь мощно проявляется функция осознания.
5.4 О происхождении сознания
В данном разделе мы рассмотрим гипотезу о происхождении человеческого сознания исходя, при этом, из предположения о трансцендентности сознания по отношению к известному нам физическому субстрату (телу и мозгу) в котором это сознание проявляется.
В предыдущих разделах данной главы мы обосновали тезис о трансцендентности сознания, который можно сформулировать следующим образом: целый ряд известных нам феноменальных и функциональных свойств сознания невозможно последовательно истолковать исходя из натуралистической предпосылки, сводящей сознание либо к функции мозга, либо к некоему “внутреннему аспекту“ самого физического субстрата мозга. Иными словами, предполагается существование “экстрасоматической“ составляющей человеческой психики, необъяснимой с позиций современной физики, химии и физиологии (но, как мы видели в предыдущем разделе, предполагаемой в рамках квантовомеханической картины мира — в качестве “нефизической“ компоненты этой картины). Спрашивается: откуда взялась эта “экстрасоматическая“ компонента психики? Если человеческая психика — это продукт эволюции, то эта трансцендентная компонента также должна проявляться постепенно, эволюционно и, следовательно, на разных этапах эволюции живого может выполнять весьма различные функции.
Специфика человеческой психики — то, что более всего отличает человека от животных — это способность к творчеству. Творчество — это созидание чего-то принципиально нового, небывалого. Что же нового, однако, может создать мозг — если он просто физическая система, действующая согласно всеобщим универсальным законам? Нейронная сеть может реализовать лишь тот алгоритм, который жестко детерминирован ее структурой. Даже когда эта сеть перестраивается, то, с точки зрения натурализма, эти перестройки также должны быть жестко детерминированы законами физиологии и биологии мозга. Следовательно, если мозг — это не более чем сложная нейронная сеть, то никакое подлинное творчество оказывается не возможным. Однако творчество существует.
Этот факт, а также проведенный нами выше анализ устройства сознания, позволяет нам достаточно уверенно утверждать, что психика — и как функциональная, и, тем более, как феноменальная сущность — не является продуктом известных нам физических, химических и физиологических процессов в мозге. Существует некий “трансцендентный фактор“ (ТФ) – предположительно тождественный целесообразной селекции квантовых альтернатив, который вносит существенный вклад работу человеческой психики, и, также, определяет качественность, целостность, индивидуальность сознания, способность к творчеству, способность к свободным целесообразным волевым выборам и, видимо, именно он обеспечивает ту огромную “вычислительную мощность“ человеческой психики, которую не способна обеспечить одна лишь нейронная сеть. Назовем этот трансцендентный фактор “трансцендентным фактором сознания“ (ТФС).
В данной части работы нас интересует вопрос о возможных эволюционных механизмах происхождения ТФС. Если человеческий мозг — продукт эволюции, то и ТФС — также должен иметь эволюционное происхождение. Эволюция — это процесс более или менее плавной трансформации одного объекта в другой. Следовательно, и ТФС не появляется внезапно “из ниоткуда“ — должен, очевидно, существовать некий “предшественник“ (или предшественники) ТФС, который должен, видимо, выполнять какие-то другие биологические функции, отличные от описанных выше психических проявлений ТФС, но, вместе с тем, этот “предшественник“ должен иметь существенно сходные с ТФС свойства. Таким общим для ТФС и его “предшественников“ свойством должна, прежде всего, быть “трансцендентность“, т.е. невозможность объяснения с позиций имеющихся в настоящее время научных теорий. Нам, следовательно, нужно отыскать биологические процессы, в которых, предположительно, мог бы проявляться некий “трансцендентный фактор“, аналогичный по своим свойствам ТФС, и которые, следовательно, необъяснимы до конца с натуралистической точки зрения. Далее, нам нужно показать, каким образом этот “трансцендентный фактор“ мог бы эволюционно трансформироваться в ТФС.
Мы попытаемся показать, что вероятные биологические процессы, в которых может изначально проявляться “трансцендентный фактор“ — предшественник ТФС — это процессы биологической эволюции и морфогенеза. Иными словами, мы попытаемся показать, что некий трансцендентный фактор, который существенным образом участвует в процессах филогенеза и онтогенеза мозга, на определенном этапе эволюции может трансформироваться в ТФС и участвовать теперь уже в организации индивидуального поведения.
То общее, что, очевидно, связывает сознание человека, эволюцию и морфогенез — это способность к творчеству. Эволюция творит виды, морфогенез — индивидуальные организмы, их тела, сознание же — творит культуру. Хотя продукты и временные масштабы творчества здесь существенно различаются, сами процессы созидания нового могут иметь принципиально общую природу и сходные механизмы. Но, прежде всего, нам нужно показать, что и эволюция и морфогенез — нуждаются для своего объяснения в привлечении трансцендентных факторов, т.е. не могут быть исчерпывающе объяснены как результат действия известных нам законов физики и химии.
Претензии на натуралистическое объяснение эволюционного процесса опираются в настоящее время на идеи т.н. “синтетической теории эволюции“, которая представляет собой соединение дарвиновского учения о естественном отборе (как движущей силы эволюции) и генетики (которая дает объяснение причин изменчивости). Согласно синтетической теории — эволюция есть результат естественного отбора мутаций — случайных точечных повреждений генетического кода. Эти повреждения могут представлять собой точечную замену одного нуклеинового основания другим, выпадение того или иного основания, дублирование генов и т.п. Большинство мутаций вредно, часть даже летально, но возможны и полезные мутации, повышающие выживаемость их носителей. В условиях давления отбора — например, при существенных изменениях условий внешней среды, конкуренции со стороны других видов, — возможно накопление положительных мутаций, повышающих шансы выжить и оставить потомство в новых условиях, что со временем порождает новый вид, приспособленный к этим новым условиям. Так, в общих чертах, синтетическая теория представляет эволюционный процесс.
В разделе 5.2 мы уже анализировали данные представления об эволюции и показали их несостоятельность. Процесса эволюции, конечно, мог происходить путем накопления случайных мутаций и естественного отбора, но этот процесс, как показывают расчеты, неизбежно растянулся бы на миллиарды лет, тогда как реальное видообразование можно наблюдать даже на временных промежутках порядка десятков лет (как в случае с образованием новых видов моллюсков в Аральском мире).
Все это заставляет предположить, что процесс эволюции направляется каким-то неизвестным нам фактором, который, вероятно, способен осуществлять быстрые адаптивные перестройки генома, например, существенно увеличивая вероятность как отдельных мутаций, так и их сочетаний. Представляется крайне маловероятным, что данный гипотетический эволюционный фактор когда-либо удастся объяснить натуралистически, т.е. с позиций имеющихся в настоящее время физических, химических, биологических и прочих теорий. Т.е. данный фактор запределен, трансцендентен по отношению к известным нам схемам теоретического объяснения. К аналогичному выводу мы пришли выше, рассматривая феномен человеческого сознания, и ввели понятие “ТФС“. По аналогии введем теперь термин: “трансцендентный фактор эволюции“ (ТФЭ).
Основную идею данного раздела можно тогда сформулировать как гипотезу сущностного тождества ТФС и ТФЭ: один и тот же трансцендентный фактор (ТФ) вначале творчески создает человеческий мозг, а затем, в качестве ТФС участвует в творческом созидании поведенческих актов на уровне отдельного индивида. (Отсюда, в частности, следует, что ТФЭ реализуется посредством того же механизма, что и ТФС т.е., в соответствии с нашим предположением, посредством механизма целесообразной селекции квантовых альтернатив). Поскольку эволюция и поведение — это весьма различные феномены (в частности, они существенно различаются пространственными и временными масштабами), то необходим некий “опосредующий фактор“, связывающий их друг с другом. С нашей точки зрения таким фактором может быть морфогенез — процесс формирования и переформирования структуры тела и мозга в ходе онтогенеза.
Мысль о том, что процессы морфогенеза направляются некоторым неизвестным нам фактором, объяснение которого не возможно в рамках общепринятых биологических теорий высказывалась уже достаточно давно. Мы имеем здесь в виду различные версии т.н. “теории морфогенетического поля“. Наиболее разработанные концепции морфогенетического (эмбрионального) поля принадлежат П. Вейсу и двум советским ученым: А.Г. Гурвичу и Н.К. Кольцову. По мнению П. Вейса и А.Г. Гурвича, морфогенетическое поле не обладает обычными физико-химическими характеристиками. А.Г. Гурвич назвал его “биологическим полем“. В противоположность этому Н.К. Кольцов полагал, что поле, командующее развитием целостного организма, сложено обычными физическими полями.
И в наше время продолжаются исследования в этом направлении, в частности в нашей стране они проводятся Ю.Г.Симаковым [185]. Оригинальную версию теории морфогенетического поля предложил в 80-е годы прошлого столетия английский биолог Р. Шелдрейк [229]. Современная версия концепции морфогенетического поля выглядит следующим образом. Полагают, что каждая клетка организма обладает собственным морфогенетическим полем, которое несет в себе информацию обо всем организме, а также и программу его развития. Поля отдельных клеток объединяются в единое морфогенетическое поле, которое охватывает весь организм, находится в постоянном взаимодействии с каждой клеткой и управляет всеми операциями по формированию и функционированию как каждой клетки, так и целого организма. По этой концепции, носителем наследственной информации является уже не ядро клетки, а ее морфогенетическое поле, а гены только отражают информацию, которую несет данное поле. Морфогенетическое поле постоянно изменяется, отражая динамику развития организма.
Популярность подобных теорий в значительной мере объясняется тем обстоятельством, что нам до сих пор не понятны механизмы генетической детерминации индивидуального развития многоклеточных организмов. Ряд исследователей: (Р. Кастлер, X. Равен), подсчитав количество информации в зиготе и в развивающемся организме, пришли к выводу, что количество информации в сформированном организме возрастает на несколько порядков, по сравнению с той, которая была в начале развития. Приводят такие оценки: генетический аппарат человека может содержать не более 10^10 бит информации, тогда как полный объем информации, необходимый для описания структуры тела и мозга человека составляет величину порядка 10^25 бит.
Таким образом, получается, что общий объем информации в процессе онтогенеза возрастает примерно на 15 порядков. Как это возможно? Откуда, из каких источников возникают эти “избыточные“ биты? Обычно отвечают так: прирост информации осуществляется “за счет механизмов межклеточных взаимодействий“. Это фактически означает, что описание структуры человеческого организма существенно избыточно и может быть “сжато“ на 15 порядков. “Межклеточные взаимодействия“ есть, в таком случае, механизм “разжатия“ этой информации. Так это или не так — выяснить пока не представляется возможным. Чтобы ответить на этот вопрос — необходимо детально проследить механизм генетической детерминации этих самых “межклеточных взаимодействий“. Если окажется, что генетической информации явно не достаточно для определения всех особенностей строения развитого взрослого организма, нам, безусловно, понадобятся нечто вроде “морфогенетического поля“ в качестве “трансцендентного фактора морфогенеза“ (ТФМ), способного творчески “прочитывать“ и “интерпретировать“ генетический код и, таким образом, обеспечить необходимый прирост информации. Функцию ТФМ в таком случае можно уподобить функции инженера-строителя, который, опираясь на проект (аналог генетического кода), возводит реальное здание. Хотя проект полностью определяет “морфологию“ будущего здания, он отнюдь не содержит полной информации о том, как это здание нужно строить. Нужен ум и знания инженера, чтобы понять смысл той информации, которая заключена в проекте, и затем воплотить данный проект в жизнь. При этом необходимая для понимания и реализации проекта дополнительная информация может на много порядков превышать тот объем информации, который содержится в тексте проекта.
Также и “морфогенетические поля“ (или ТФМ) могут выполнять функцию “понимания“, “интерпретации“ и “воплощения в жизнь“ того “проекта“ организма, который содержится в ядре оплодотворенной яйцеклетки и именно они, в таком случае, будут источником той дополнительной информации, которая проявляется в ходе онтогенеза. Если такого рода морфогенетическое поле действительно существует, то именное его и следует рассматривать в качестве “связующего звена“ между ТФЭ и ТФС.
Но, повторим, приращение “морфологической информации“ за счет трансцендентного внешнего источника в ходе нормального онтогенеза — это не более чем гипотеза. Заметим также, что в отличие от эволюции и сознания, морфогенез в норме, по крайней мере, в пренатальной фазе развития организма, не представляется по-настоящему творческим процессом. Он лишь интерпретирует и воссоздает в материальном плане то, что изначально содержалось в генетической программе. Однако творческий характер морфогенеза проявляется в тех случаях, когда необходимо исправлять какие-либо повреждения, нарушающие нормальный ход онтогенеза, в процессах регенерации органов, а также в ходе раннего постнатального развития.
Известна поразительная пластичность развития эмбрионов животных и человека. Мы знаем, что полноценный организм способен вырасти из отдельного фрагмента или даже отдельной клетки первоначального эмбриона — таким путем появляются однояйцевые близнецы. Низшие животные и во взрослом состоянии проявляют такого рода способность восстановления целого из отдельной части. Так плоские черви планарии способны восстановить свой облик из 1/300 части своего тела. Если разрезать планарию на различные по величине кусочки и оставить в покое на несколько недель, то клетки в тканях планарий теряют свою специализацию и перестраиваются в целых животных различного размера. Важно подчеркнуть, что в некоторых случаях регенерация органов взрослых животных протекает совершенно иначе, чем их нормальное развитие в онтогенезе — что указывает на творческий характер морфогенетических процессов.
Морфогенез у высших животных активно продолжается и после рождения. Особенно это касается развития головного мозга. Так человек рождается уже с достаточным количеством нейронов в мозге, но связи между этими нейронами формируются в основном уже после рождения. Скорость образования синапсов в головном мозге новорожденного у человека высока и составляет около 500000 синапсов в секунду. Такая скорость формирования синапсов сохраняется весь неонатальный период — первые 28 дней жизни. Но окончательно нервные связи формируются лишь к 7 годам жизни. У животных также наблюдается активный процесс образования новых связей в мозге в первые недели и месяцы после рождения. При этом постнатальный онтогенез мозга управляется не только генетической программой, но существенным образом зависит от характера внешней стимуляции, от условий, в которые помещен организм.
Сошлемся на исследования группы ученых из Массачусетсского технологического института (Д. Шарм, А. Ангелуччи, М. Сур), которые продемонстрировали поразительную пластичность мозга в ранний постнатальный период. Они брали хорьков в возрасте одного дня и делали им хирургическую операцию: подсаживали оба зрительных нерва к таламокортикальным путям, ведущим в слуховую сенсорную кору. Целью эксперимента было выяснить, изменится ли слуховая кора структурно и функционально при передаче ей зрительной информации. (Известно, что для каждого типа коры характерна особая архитектура нейронов). В самом деле, это произошло: в результате воздействия зрительной стимуляции слуховая кора морфологически и функционально стала похожа на зрительную! [217]. Вряд ли способность к такого рода неестественным перестройкам морфологии и функции могла возникнуть в процессе естественного отбора. Скорее здесь можно заподозрить действие некого “разумного“ (или “квазиразумного“) фактора, активно воздействующего на морфогенез, и приводящего морфологию мозга в соответствие с характером внешней сенсорной стимуляции. Таким образом, именно для объяснения такого рода “творческих“ процессов адаптивной перестройки морфологии организма (прежде всего, мозга) нам и может понадобиться представление о существовании особого “морфогенетического поля“ или ТФМ.
Теперь, после того как мы обосновали необходимость (или хотя бы вероятность) привлечения необъяснимых в рамках современной науки “трансцендентных факторов“ для объяснения эволюции, сознания и морфогенеза, мы можем попытаться представить, как происходила трансформация ТФЭ через ТФМ в ТФС, т.е. представить процесс эволюционного развития сознания из фактора, первоначально задействованного в процессах филогенеза и определяющего, видимо, адаптивность и восходящий характер эволюционного процесса.
В общих чертах этот процесс можно представить следующим образом. Первоначально живые организмы возникли под влиянием творческой активности ТФЭ как своего рода автономные “биологические машины“, деятельность которых полностью определялась их физико-химической конструкцией. Затем, вероятно под давлением отбора, ТФЭ начинает все более активно вмешиваться в жизнь созданных им “биологических автоматов“, вначале создавая все более и более эффективные механизмы перестройки и регуляции функций генома, а затем, уже начинает активно вмешиваться непосредственно в процессы морфогенеза на уровне отдельного индивида — уже не за счет генных перестроек, а, видимо, путем прямой регуляции экспрессии генов. Т.о. ТФЭ эволюционно трансформируется в ТФМ. Поскольку поведение животных прямо определяется морфологией мозга, то контроль над морфогенезом позволяет ТФМ со временем контролировать и поведение животных (в частности, процессы обучения — которые, по сути, являются процессами ограниченного постнатального морфогенеза). Это означает, что у животных ТФМ фактически выполняет функцию ТФС. В дальнейшей эволюции ТФМ находит себе новые биохимические мишени и в какой-то момент (который имел место, видимо, у каких-то приматов — предшественников человека) начитает прямо воздействовать на поведение животного — уже не через адаптивные перестройки морфологии, а путем прямого воздействия на процессы генерации и (или) проведения нервных импульсов. С этого момента ТФМ начинает эволюционно трансформироваться в ТФС. У человека этот процесс трансформации завершается — ТФС становится основным фактором, регулирующим текущее поведение. Это событие имело место, вероятно, 40-50 тысяч лет назад, что привело к “взрыву“ творческих способностей, породившему в конечном итоге человеческую культуру.
Рассмотрим теперь эту схему более подробно. Прежде всего, нам необходимо рассмотреть связь между эволюционным процессом и морфогенезом. Если эволюция одноклеточных организмов была преимущественно связана с совершенствованием их биохимического аппарата, то эволюция многоклеточных почти целиком происходила за счет модификаций генов, управляющих процессами эмбрионального, внутриутробного морфогенеза, а также и процессами постнатального развития организма. Не будет большим преувеличением, если мы скажем, что эволюция многоклеточных — есть эволюция морфогенеза.
Если ранняя эволюция была в основном связана с созиданием новой генетической информации, с увеличение общего числа структурных генов, то в дальнейшем тактика эволюции меняется и на первый план выдвигается сложный многоуровневый регуляторный аппарат, позволяющий тонко управлять процессами экспрессии различных структурных генов. Мишенью эволюции становятся регуляторные гены, число которых быстро растет и существенно обгоняет число структурных генов. Т.е. вместо того, чтобы создавать новые гены, эволюция сосредотачивается на выработке более эффективных механизмов генетической регуляции экспрессии уже существующих генов. Поэтому не удивительно, что общее число генов у многоклеточных организмов в эволюционном ряду либо вообще не возрастает, либо возрастает не значительно. (Общее число генов у человека (около 20-25 тыс.) такое же, как, например, у некоторых круглых червей).
Прослеживая данную тенденцию легко представить, что на каком-то этапе эволюции генетическая регуляция экспрессии генов со стороны ТФЭ дополняется какими-то другими, боле прямыми и менее затратными не генетическими методами контроля экспрессии генов. Но прямая регуляция экспрессии генов позволяет уже напрямую, минуя геном, управлять процессами морфогенеза. Ведь морфогенез — это, помимо роста, есть еще и процесс дифференцировки клеток, связанный с регуляцией экспрессии структурных генов. Функцию “морфогенетического поля“ в частности, усматривают в том, что оно отдает клеткам команды к включению или выключению различных генов в зависимости от того, в какой части зародыша оказывается та или иная клетка.
Итак, мы можем вполне обоснованно предположить, что ТФЭ на каком то этапе развития обретает прямой (минуя геном) контроль над морфогенезом и, следовательно, эволюционно трансформируется в ТФМ. При этом он получает возможность творчески исправлять дефекты развития и восстанавливать целостный организм из отдельных фрагментов. У высших животных он обретает возможность адаптивно “достраивать“ мозг в процессе раннего постнатального развития и, также, управлять процессами морфогенеза во взрослом мозге, непосредственно вмешиваясь в процессы обучения, и, т.о., через морфогенез управлять поведением животного.
Последнее оказывается возможным в силу существования изначальной связи между эволюцией и поведением. Поведение животных прямо детерминировано морфологией их нервной системы. Если речь идет об инстинктивном поведении, то соответствующие морфологические структуры генетически детерминированы и, следовательно, непосредственно создаются эволюционным процессом. Эволюция не только приспосабливает биологию организма к условиям внешней среды, но и приспосабливает к ним поведение животного. Приобретенное поведение уже не зависит прямо от генов, но по-прежнему зависит от морфологии нервных связей. Если ТФ обретает контроль над морфогенезом и помимо воздействия на гены, то, очевидно, ничто не мешает ему контролировать и приобретенные формы поведения.
Рассмотрим подробнее связь приобретенных форм поведения с морфогенезом. Исследования показывают, что в мозге взрослых животных и людей происходят постоянные перестройки связей между нейронами. Идет активное образование новых синаптических контактов между клетками и их разрушение. (По некоторым оценкам в коре мозга человека каждые сутки создается 800 миллионов новых синапсов и примерно столько же разрушается [177]). Эти процессы образования новых синаптических связей (отдельных синапсов, коллатералей), а также изменение эффективности уже существующих — рассматриваются в настоящее время как основа процессов консолидации долговременной памяти.
Исследования последних лет показали, что начальным звеном цепочки молекулярных процессов, обусловливающих морфологические модификации нейронов как в процессе морфогенеза (ранний онтогенез), так и при консолидации памяти у взрослых индивидов, является один и тот же процесс экспрессии “ранних“ генов. Активация “ранних“ генов — это довольно кратковременный процесс (около 2 часов), сменяемый второй волной экспрессии – “поздних“ генов. При этом синтезируются морфорегуляторные молекулы, имеющие непосредственное отношение к морфологическим модификациям нейрона [3, 4, 5].
Таким образом, исследования показывают, что многие закономерности модификации функциональных и морфологических свойств нейронов, а также регуляции экспрессии генов, лежащие в основе научения у взрослых, сходны с теми, которые определяют процессы созревания, характеризующие ранние этапы онтогенеза. Это дает ряду авторов основание утверждать, что научение есть своего рода реактивация процессов созревания, имеющих место в раннем онтогенезе. Таким образом, в отношении мозга созревание и научение оказываются тесно связанными и даже тождественными на уровне базовых механизмов регуляции экспрессии генов. Как утверждает К.В. Анохин: “в мозге процессы морфогенеза и развития никогда не прекращаются, а лишь переходят под контроль когнитивных процессов“ [3].
Помимо перестроек синаптических связей, в процессах научения, видимо, участвуют и процессы нейрогенеза — процессы образования новых нервных клеток. В последние годы убедительно опровергнута догма: “нервные клетки не восстанавливаются“. Нейрогенез в зрелом мозге обнаружен и у животных, и у человека. Конечно, зрелые нервные клетки не размножаются, но новые нейроны могут возникать из стволовых клеток которые, в частности, находятся на внутренних стенках мозговых желудочков.
Процесс нейрогенеза происходит в мозге взрослых людей. Причем если у грызунов нейрогенез идёт только в гиппокампе, то у человека он может захватывать более обширные зоны головного мозга, включая кору больших полушарий. Установлено, что в обонятельных луковицах мозга человека и зубчатой извилине гиппокампа идёт непрерывное обновление нейронов. Установлено, что в ассоциативных областях лобной, височной и теменной долей у взрослых обезьян образуются новые гранулярные нейроны с небольшим (около двух недель) временем жизни. У приматов также выявлен нейроногенез в обширной области, охватывающей внутреннюю и нижнюю поверхности височной доли мозга. Видимо то же самое происходит и в мозге человека. По крайней мере для птиц показано, что процессы нейрогенеза влияют на реализацию врожденных форм поведения (пение птиц). Есть основание думать, что и у человека нейрогенез связан с обучением. Так, например, исследования лондонских таксистов показали, что размер гиппокампа у них положительно коррелировал со стажем работы, что связано, видимо, с более активным нейрогенезом при условии необходимости запоминания больших объемов топографической информации.
Мы видим, что как врожденные, так и приобретенные формы поведения тесно связаны с процессами морфогенеза. Если “творческие“ формы морфогенеза управляются неким “разумным“ трансцендентным фактором (ТФМ), то этот же фактор, как мы предположили, может также творчески и разумно управлять поведением. Следовательно, с этой точки зрения животные обладают чем-то подобным человеческому сознанию, но это “сознание“ действует относительно “медленно“ — лишь через посредство долгосрочных морфологических изменений в мозге.
Морфогенез — это весьма медленный процесс, который занимает многие часы, сутки, недели и даже месяцы. Человеческое же сознание способно разумно и творчески управлять поведением на гораздо меньших временных интервалах — порядка секунд и даже долей секунды. Как мы установили выше, сознание необъяснимо натуралистически и требует введения трансцендентного фактора. Следовательно, если в основе сознания человека лежит трансцендентный фактор, то этот фактор действует, по крайней мере, не только через морфогенез.
Исследования показывают, что у высших животных и у человека морфогенез в мозге протекает более интенсивно, чем у низших, чем, видимо, объясняется большая пластичность поведения первых. Можно предположить, что в человеческом мозге интенсивность морфогенеза достигает физиологического максимума. Поэтому дальнейшее развитие сознания и мышления было возможно лишь на путях радикального изменения характера связи трансцендентного фактора с мозгом.
Как мы предположили выше, в какой-то момент появляется принципиально новый способ воздействия трансцендентного фактора на поведение, не опосредованный морфогенезом. Трансцендентный фактор находит новые биологические мишени, что позволяет ему непосредственно модулировать нейродинамические процессы, не втягиваясь в медленные и затратные процессы морфогенеза. В этот момент ТФМ постепенно трансформируется в ТФС. Точнее, возникают два параллельных механизма: один более древний “медленный“ — связанный с модуляцией морфологенетических процессов, и другой более молодой и “быстрый“ — связанный с модуляцией текущей нейродинамики. Эти механизмы тесно связаны (т.к. в обоих случаях действует один и тот же трансцендентный фактор), но обладают и значительной автономией. Было бы вполне логично истолковать эти механизмы как фрейдовское “сознание“ и “бессознательное“.
Эволюционное зарождение ТФС, как мы полагаем, произошло до появления человека. ТФС не мог возникнуть мгновенно — эволюция допускает лишь плавные переходы от одной формы к другой. Критерием наличия ТФС является способность решения экстренно возникающих задач, для которых у данного животного нет готовых (инстинктивных или выученных) решений. Т.е. способность к “инсайту“. Такой способностью, как известно, обладают не только люди, но и в ограниченной форме обладают высшие приматы, например, шимпанзе, а также и некоторые другие виды животных (дельфины, врановые птицы и др.). Но эту способность к инсайту приматы и другие развитые животные проявляют лишь от случая к случаю, несистематически. У них все еще преобладают врожденные или выученные схемы поведения. Только у человека инсайт становится основным механизмом регуляции поведения. Полагают, что современный человек Homo sapiens sapiens появился примерно 200 тыс. лет назад. Однако первые 150-160 тыс. лет он практически мало эволюционировал. На протяжении десятков тысяч лет люди использовали практически неизменные орудия труда, отсутствовало искусство, религия и человек, по сути, не проявлял какой-либо существенной изобретательности. Однако 40-50 тыс. лет назад происходит неожиданный взрыв творческой активности: появляются многочисленные новые формы каменных орудий, возникает искусство, религия, культура, затем человек изобретает лук, осваивает скотоводство и земледелие, возникают первые государства и письменность. Этот революционный скачок не сопровождался сколько-нибудь заметным изменением морфологии, объема мозга и т.п. Можно предположить, что этот скачок был вызван эволюционными изменениями конструкции мозга, которые позволили трансцендентному фактору не просто “подключиться“ к нейродинамике мозга (что произошло на более ранних стадиях эволюции), но взять ее под полный контроль и, таким образом, всесторонне модулировать поведение в “реальном“ масштабе времени.
Если предположить, как это сделано в первой части работы, что ТФС действует через механизм целесообразной селекции квантовых альтернатив, то должна существовать жесткая положительная корреляция между развитием (количественным увеличением) этого механизма и степенью разумности поведения. Например, как мы предположили выше, этот механизм может быть связан с деятельностью нейронов, обладающих спонтанной импульсной активностью. Тогда разумность поведения должна коррелировать с количеством спонтанно активных нейронов, вовлеченных в нейронные процессы, связанные с принятием решения, выбором поведенческих альтернатив.
При этом мы отнюдь не отрицаем связи сознания с общим количеством нервной ткани и сложностью организации мозга. Мозг, с нашей точки зрения, — это своего рода “инструмент“, с помощью которого осуществляется саморегуляция ТФС, а также это механизм, способный достаточно автономно осуществлять автоматизированные (врожденные или выученные) программы поведения. Ясно, что и та и другая функции мозга зависят от сложности его организации. С помощью мозга ТФС управляет своими функциями примерно таким же образом, каким мышление человека организует свою деятельность с помощью языка. Нельзя сказать, что язык мыслит. Мыслит мышление, организуя собственные функции посредством языковых символов. Чем сложнее язык, чем больше в нем слов — тем эффективнее работает мышление. Аналогично, чем сложнее и больше мозг — тем эффективнее работает ТФС (хотя бы потому, что увеличивается число альтернатив, из которых процесс осознания может делать выбор). Усложнение функций ТФС повышает его творческие возможности, расширяет репертуар поведения и, соответственно, увеличивает число приобретенных поведенческих программ. А для этого также необходим большой и сложно организованный мозг. Одно размер мозга — это лишь необходимое, но не достаточное условие возникновения механизма ТФС. Так, у кашалотов и голубых китов мозг гораздо больше, чем у человека, но это не делает их полноценными сознательными существами. Да и у человека размер мозга далеко не всегда коррелирует с умственными способностями. (Например, у И. Канта и А. Франса мозг был небольшой, а самый большой мозг (около 3 кг.) был обнаружен у олигофрена).
Заметим, что если действие осознания связано лишь с восприятием физической реальности (как мы предположили в предыдущем разделе работы), то оно не обязательно должно включать в себя видимое воздействие на распределение квантовых вероятностей (сопряженное с выбором той или иной квантовой альтернативы). Можно предположить и другой, более простой механизм регуляции поведения, связанный, например, с квантовым эффектом Зенона. Суть этого эффекта состоит в том, что периодическое наблюдение за нестабильной квантовой системой (например, молекулой в возбужденном состоянии), то есть проверка — распалась эта система на фотон и молекулу с более низкой энергией или не распалась, вызывает замедление ее распада (за счет “редукции“ волновой функции исходной системы). При этом непрерывное наблюдение за нестабильной системой вообще не дает ей распасться. Если осознание сводится к наблюдению, то уже благодаря этому оно вполне вероятно способно тормозить или даже полностью останавливать различного рода биохимические процессы и тем самым влиять на способность нейронов генерировать потенциалы действия. Если наблюдение способно затормозить активность нейронов, которые в свою очередь оказывают тормозящее воздействие (через тормозные синапсы) на командные нейроны, запускающие те или иные поведенческие реакции, то процесс осознания, просто “сосредотачивая внимание“ на тех или иных биохимических процессах в определенных нейронах, будет способен запускать (а также тормозить) широкий спектр поведенческих реакций, т.е., по сути, сознание сможет управлять поведением человека, не оказывая, при этом, на его мозг никакого физического воздействия.
Заметим также, что наблюдение способно и иначе “влиять“ (иллюзорно, конечно, т.е. посредством случайной селекции альтернативы и невосприятия других альтернатив) на физические и химические процессы, например, разрушая квантовую когерентность и квантовую запутанность состояний. В литературе уже отмечалась возможная роль квантовой когерентности в процессах фотосинтеза и квантовой запутанности – в стабильности молекулы ДНК. Т.о. можно предположить, что простое наблюдение может как-то изменять ход биохимических процессов в нервной клетке и т.о. либо тормозить, либо активировать процесс генерации нервного импульса. Это также вероятно позволит сознанию запускать или тормозить поведенческие реакции просто путем сосредоточения внимания на определенных биохимических процессах в тех или иных командных нейронах (или же в нейронах, оказывающих модулирующее воздействие на командные нейроны), что субъективно будет переживаться как определенное волевое усилие. Здесь от сознания требуется лишь способность перемещать “фокус внимания“ и нет необходимости в гипотезе неслучайного характера селекции квантовых альтернатив сознанием. Такого рода регуляция поведения будет осуществляется почти без всяких энергетических затрат и, вероятно, с очень высокой скоростью что и может составлять основу действия гипотетического механизма ТФС.
Появление “быстрого“ механизма ТФС и его полный контроль над текущим поведением — все это дало человеку огромные преимущества. Наличие ТФС позволяет нам быстро ориентироваться в незнакомой обстановке и экстренно принимать осознанные творческие решения на временных интервалах порядка секунд и даже долей секунды — в ситуациях когда нет готового, заранее выученного решения. Животные (кроме высших приматов и других упомянутых видов) на таких интервалах, как правило, способны лишь реализовать заранее сформированные (врожденные или приобретенные) программы поведения. Поэтому животное беспомощно в новой, незнакомой для него ситуации, хотя способно действовать вполне разумно и целесообразно в привычной и мало меняющейся обстановке. Иными словами, животное просто мыслит намного медленнее человека и потому его мышление оказывается бесполезным, если внешний мир быстро и непредсказуемо изменяется.
ТФС привносит творческий элемент в текущее поведение и тем самым позволяет человеку осуществлять такие действия, как быстрая спонтанная (заранее не подготовленная) речь, активный диалог, музыкальная и прочая художественная импровизация и т.п. Важно также, что человеческое творчество, в отличие от творчества животных, не отягощено необходимостью сопряженных, весьма затратных энергетически и материально, морфогенетических процессов, и, таким образом, получает неограниченные возможности развития. Человек с легкостью может творчески проигрывать в уме различные ситуации, рассматривать различные альтернативные схемы поведения — и это не требует какой-либо перестройки анатомических связей между нейронами. Требуется лишь обратимая перестройка электрической активности нейронов
В результате у человека развивается сложная и богатая внутренняя жизнь, которая позволяет ему дистанцироваться от природной среды, созидать культуру, общество, религию, т.е. быть собственно человеком, а не животным.
ЛИТЕРАТУРА
1. Адамар Ж. Исследование психологии процессов изобретения в области математики М., 1970.
2. Андреева С.И, Андреев Н.И. Эволюционные преобразования двухстворчатых моллюсков Аральского моря в условиях экологического кризиса. Омск, 2003.
3. Анохин К. В. Обучение и память в молекулярно-генетической перспективе // Двенадцатые Сеченовские чтения. М., 1996.
4. Анохин К. В. Психофизиология и молекулярная генетика мозга /Основы психофизиологии/Под. ред. Ю. И. Александрова. СПб., 2001.
5. Анохин К.В. Молекулярные сценарии консолидации долговременной памяти // Журн.высш.нервн.деят. 1997. Т.47. N 2. С. 261-280.
6. Антипенко Л.Г. Проблема неполноты теории и ее гносеологическое значение. М., 1986.
7. Антонов В.Ю. Второе лицо. Саратов, 2003.
8. Айзенк Г., Серджент К. Объяснение необъяснимого. М., 2001.
9. Балонов Л.Я., Деглин В.Л. Слух и речь доминантного и недоминантного полушария. Л., 1976.
10. Банников В.С. и др. Эффект Джозефсона в биомолекулярных структурах // Доклады АН УССР. Сер. А. 1990. №9. С. 46-50.
11. Барабанщиков В.А. Динамика зрительного восприятия. М., 1990.
12. Бахманн Т. Психофизиология зрительной маскировки. Тарту, 1989.
13. Беленков Н.Ю. Принцип целостности в деятельности мозга. М., 1980.
14. Белов В.Н. Обыденное сознание и человеческое бытие. Саратов, 1996.
15. Белоусов Л.В. Истоки, развитие и перспективы теории биологического поля // Физические и химические основы жизненных явлений. М., 1963.
16. Белый Б.И. Психические нарушения при опухолях лобных долей мозга. М.,1987.
17. Бергсон А. Материя и память // Собрание сочинений. Т.1., 1992.
18. Бергсон А. Опыт о непосредственных данных сознания // Собрание сочинений. Т.1. М.,1992.
19. Бердников В.А. Эволюция и прогресс. Новосибирск, 1991.
20. Бердяев Н.А. Дух и реальность // Бердяев Н.А. Философия свободного духа. М., 1994.
21. Беркли Дж. Сочинения. М., 1978.
22. Беркович С.Я. Клеточные автоматы как модель реальности: поиски новых представлений физических и информационных процессов. М., 1993.
23. Бостром Н. Сколько осталось до суперинтеллекта? http://lib.novgorod.net/INTERIDEAS/superint.txt.
24. Брагина Н.И., Доброхотова Т.А. Функциональные асимметрии человека. М.,1988.
25. Брентано Ф. Избранные работы. М.,1996.
26. Булгаков С.Н. Свет невечерний. М., 1994.
27. Вайнштейн М.Б. Проблема квантовомеханических измерений и макроскопическое описание квантовых систем. Томск, 1981.
28. Валиев К.А. Квантовые компьютеры: можно ли их сделать большими? // УФН. 1999. 169. (6). С. 691-694.
29. Введенский А.И. Статьи по философии. СПб., 1996.
30. Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. М., 2000.
31. Виндельбанд В. О свободе воли // Избранное. Дух и история. М., 1995.
32. Винер Н. Кибернетика и общество. М., 1958.
33. Витгенштейн Л. Философские работы. М., 1994.
34. Войшвилло Е.К. Логическое следование и импликация // Актуальные проблемы логики и методологии науки. Киев. 1980. С. 173-192.
35. Вундт В. Душа и мозг. Спб., 1901.
36. Галимов Э.М. Феномен жизни: между равновесием и нелинейностью. Происхождение и принципы эволюции. М., 2001.
37. Гарин И. Что такое философия и что такое истина? М., 2001.
38. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. В 3-х Т. М., 1977.
39. Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. М., 1990.
40. Гельмгольц Г. О восприятиях вообще // Хрестоматия по ощущению и восприятию. М., 1975.
41. Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М., 1988.
42. Глезер В.Д. Зрение и мышление. Л., 1985.
43. Грант В. Эволюция организмов. М., 1980.
44. Грант В. Эволюционный процесс. М., 1991.
45. Гроф С. «Путешествие в поисках себя». М.: Из-во Трансперсонального Института, 1994.
46. Гроф С. За пределами мозга. М., 1992.
47. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1997.
48. Гурвич А.Г. Теория биологического поля. М., 1944.
49. Гусев С.С., Тульчинский Г.Л. Проблема понимания в философии. М., 1985.
50. Гуссерль Э. Картезианские размышления // Гуссерль Э. Логические исследования. Картезианские размышления. Минск, 2000.
51. Гуссерль Э. Собрание сочинений. М., 1994. Т.1.
52. Гуссерль Э. Феноменология // Логос. 1991.№1. С.12-21.
53. Гуссерль Э. Феноменология как строгая наука. Новочеркасск, 1994.
54. Де Мауро Т. Введение в семантику. М., 2000.
55. Делез Ж. Логика смысла. М., 1995.
56. Дельгадо Х. Мозг и сознание. М., 1971.
57. Дмитренко Л.Г., Воробьев Г.Г. Подход к изучению сознания как физической реальности // Сознание и физическая реальность. М., 2000. Т.5. №3.
58. Добронравова И.С., Ситько С.П. Квантовая физика живого // Философские исследования современных проблем квантовой теории. М., 1991. С. 92-99.
59. Доронин С.И. Квантовая магия. СПб, 2007.
60. Дорфман В.Д., Иванов Л.В. ЭВМ и ее элементы. Развитие и оптимизация. М., 1988.
61. Дрейфус Х. Чего не могут вычислительные машины. Критика искусственного разума. М.,1978.
62. Дубров А.П., Пушкин В.Н. Парапсихология и современное естествознание. М. 1980.
63. Дубровский Д.И. Информация, сознание, мозг. М.,1980.
64. Дубровский Д.И. Психика и мозг — результаты и перспективы исследований // Мозг и разум. М., 1994.
65. Дубровский Д.И. Психические явления и мозг. М., 1971.
66. Дубровский Д.И., Черносвитов Е.В. К анализу структуры субъективной реальности // Вопросы философии. 1979, №3.
67. Жданов Г.Б. Информация и сознание // Вопросы философии. М., 2000. №11. С. 97-104.
68. Запорожец В.М. Контуры мироздания. М., 1994.
69. Зеки С. Зрительные образы в сознании и в мозге // В мире науки. 1992. №11-12. С. 33-41.
70. Зельдович Я.Б. Возможно ли образование вселенной из ничего? // Природа. 1988. №4.
71. Зеньковский В.В. Единство личности и проблема перевоплощения // Переселение душ. М., 1994. С. 336-354.
72. Зинченко В.П., Вергилис Н.Ю. Формирование зрительных образов. М., 1969.
73. Иваницкий А.М., Стрелец В.Б., Корсаков И.Л. Информационные процессы мозга и психическая деятельность. М.,1984.
74. Иванов Е.М. Геделевский аргумент. Саратов, 2004.
75. Иванов Е.М. Материя и субъективность. Саратов, 1998.
76. Иванов Е.М. Сознание и квантовые компьютеры // Сознание и физическая реальность. 2001. № 6.
77. Иванов Е.М. Физическое и субъективное: поиски аналогии. Саратов, 1997.
78. Иванов Е.М. Сознание и психофизическая проблема // Философия сознания: классика и современность. Вторые Грязновские чтения. М., 2007.
79. Изард К. Эмоции человека. М., 1980.
80. Калинин Ф.Л. Основы молекулярной биологии. Киев, 1975.
81. Кант И. Критика чистого разума. М., 1994.
82. Капра Ф. Дао физики. СПб., 1994.
83. Карнап Р. Значение и необходимость. М., 1959.
84. Карсавин Л.П. SALIGIA // Малые сочинения. СПб., 1994.
85. Карсавин Л.П. О личности // Религиозно-философские сочинения. М., 1992. Т. 1.
86. Карсавин Л.П. О свободе // Карсавин Л.П. Малые сочинения. СПб., 1994.
87. Картер Б. Совпадение больших чисел и антропный принцип в космологии // Космология: теория и наблюдения. М., 1978.
88 Килин С.Я. Квантовая информация // УФН. 1999. 169 (5). С. 507-528.
89. Кимура М. Молекулярная эволюция: Теория нейтральности. М., 1987.
90. Клацки Р. Память человека: структура и процессы. М., 1978.
91. Клини С.К. Введение в метаматематику. М., 1957.
92. Клини С.К. Математическая логика. М., 1973.
93. Козин Н.Г. Бесконечность. Прогресс. Человек: Статус человека в объективной реальности. Саратов, 1988.
94. Колчинский Э.И. Неокатастрофизм и селекционизм: вечная дилемма или возможность синтеза? СПб., 2002.
95. Кон И.С. Открытие «Я». М., 1978.
96. Конан Дойль А. История спиритизма. СПб., 1998.
97. Костерин А.М. Личность в Многомерии // Сайт Международного центра эвереттических исследований (МЦЭИ).
98. Костерин А.М. Большой мир; Размышления о странствиях души. http://filosof.net/disput/kosterin/kosterin.htm
99. .Лаберж С. Осознанное сновидение. — К.: “София”, Ltd, M.: Из-во Трансперсонального Института. 1996.
100. Лапшин И. И. Философия изобретения и изобретение в философии. М., 1999.
101.Лебедев Ю.А. «Эвереттизм без Эверетта» http://piramyd.express.ru/disput/lebedev/ewe.htm
102. Левинас Э. Значение и смысл // Онтология. Эстетика. Религиозная философия. Труды высшей религиозно-философской школы. СПб. Вып. 2. 1993.
103. Лейбниц Г.В. Сочинения в четырех томах. Т.2..М., 1983. С. 230-247.
104. Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. М.,1980.
105. Лем С. Сумма технологии. М., 1996.
106. Леонтьев Д.А. Психология смысла. Природа, строение и динамика смысловой реальности, 2-е, испр. изд. — М.: Смысл, 2003.
107. Лима-де-Фариа А. Эволюция без отбора. М., 1991.
108. Логвиненко А.Д. Перцептивная деятельность при инверсии сетчаточного образа // Восприятие и деятельность. М., 1976.
109. Лопатин Л.М. Вопрос о реальном единстве сознания // Аксиомы философии. М., 1996.
110. Лопатин Л.М. Понятие о душе по данным внутреннего опыта // Аксиомы философии. М., 1996.
111. Лопатин Л.М. Явление и сущность в жизни сознания // Аксиомы философии. М., 1996.
112. Лосев А.Ф. Самое само // Миф. Число. Сущность. М., 1994.
113. Лосский Н.О. Типы мировоззрений //Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. М., 1995.
114. Лосский Н.О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. М., 1995.
115. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. М., 1973.
116. Мальцев А.И. Алгоритмы и рекурсивные функции. М., 1965.
117. Мамардашвили М.К. Сознание как философская проблема // Вопросы философии. 1990. №10. С.3-118.
118. Манин Ю.И. Вычислимое и невычислимое. М., 1980.
119. Марголис Дж. Личность и сознание. М., 1986.
120. Маресин В.М. Пространственная организация эмбриогенеза. М.,1990.
121. Марков А.В. Ароморфозы и параллелизмы. Доклад, прочитанный в институте Общей Генетики 18 марта 2004 г.
122. Марр Д. Зрение. Информационный подход к изучению представления и обработки зрительных образов. М., 1987.
123. Машины Тьюринга и рекурсивные функции. М., 1972.
124. Менский М.Б. Концепция сознания в контексте квантовой механики // УФН, 2005, т. 174, №4.
125 Менский М.Б. Человек и квантовый мир. Фрязино, 2005.
126. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999.
127. Минский М., Пейперт С. Перцептроны. М., 1971.
128. Митина С.В., Либерман Е.А. Входные и выходные каналы квантового биокомпьютера.// Биофизика. 1990.Т.35, вып.1. С.132-135.
129. Михайлов Ф.Т. Загадка человеческого Я. М., 1976.
130. Молчанов В.И. Время и сознание. Критика феноменологической философии. М., 1988.
131. Молчанов В.И. Парадигма сознания и структура опыта // Логос. 1992, №3. С. 7-37.
132. Монтегю Р. Прагматика и интенсиональная логика // Семантика модальных и интенсиональных логик. М. 1981.
133. Моррис Г. Сотворение мира: научный подход. Калифорния, 1990.
134. Моуди Р. Жизнь до жизни. Киев, М., Спб, 2003.
135. Нагель Э., Ньюмен Дж. Р. Теорема Геделя. М., 1970.
136. Найсер У.Познание и реальность. М., 1981.
137. Налимов В.В. В поисках иных смыслов. М., 1993.
138. Налимов В.В. Вероятностная модель языка. М., 1979.
139. Налимов В.В. Спонтанность сознания. Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектоника личности. М.,1989.
140. Налимов В.В., Дрогалина Ж.А. Реальность нереального. М., 1995.
141. Невважай И.Д. Свобода и знание. Саратов, 1995.
142. Нейман И. фон. Математические основы квантовой механики. М., 1967.
143. Ницше Ф. Воля к власти. М., 1994.
144. Орынбеков М.С. Проблема субстанции в философии и науке. Алма-Ата, 1975.
145. Павиленис Р.И. Проблема смысла. М., 1983.
146. Паршин А.Н. Размышления над теоремой Геделя // Вопросы философии. М., 200, №6. С. 92-109.
147. Патнем Х. Философия сознания. М., 1999.
148. Пенроуз Р. Новый ум короля. М., 2003.
149.Перминов В.Я. Развитие представлений о надежности математического доказательства. М., 1987.
150. Петров С. Подходы и теории отражения в когнитивной психологии // Философские науки. 1991. №2. С.61-73.
151. Плотин. Космогония. М., 1995.
152. Плотин. О числах // Лосев А.Ф. Миф. Число. Сущность. М., 1994.
153. Плотин. Письмо к Флакку // Успенский П.Д. Tertium organum. СПб.,1992.
154. Плотин. Энниады. М., 1995.
155. Полани М. Личностное знание. М., 1985.
156. Попович М. В. Философские вопросы семантики. Киев, 1975.
157. Поппер К. Логика и рост научного знания. М.,1983.
158. Портнов А.И. Язык и сознание. Иваново. 1994.
159. Патнем Ф.В. Диагностика и лечение расстройства множественной личности. М.: Когито-Центр, 2003.
160. Подольский И.Я. Новые фармакологические и поведенческие данные не согласуются с традиционными представлениями об универсальности механизмов консолидации долговременной памяти. // Материалы Международных чтений, посвященных 100-летию со дня рождения члена-коррес-пондента АН СССР, академика АН АрмССЭ.А.Асратяна.30 мая 2003.
161. Прист С. Теории сознания. М., 2000.
162. Прокл Первоосновы теологии, М., 1993.
163. Райл Г. Понятие сознания. М.,2000.
164. Рассел Б. История западной философии. Новосибирск, 1997. Т.1.
165. Рассел Б. Религия и наука // Почему я не христианин. М., 1987.
166. Рассел Б. Человеческое познание. Его сфера и границы. М., 1957.
167. Расщепленный мозг. Тбилиси, 1972.
168. Рауп Д., Стэнли С. Основы палеонтологии. М., 1974.
169. Решетникова Т.П. О возможности экстрасенсорной коррекции ядерных процессов в живой природе // Парапсихология и психофизика. — 1992. — №6. — С.54-56.
170. Рибо Т. Память в ее нормальном и болезненном состоянии. Спб.,1894.
171. Роджерс Х. Теория рекурсивных функций эффективная вычислимость. М., 1972.
172. Розет И.М. Психология фантазии. Минск, 1991.
173. Рок И. Введение в зрительное восприятие. Т.1,2. М., 1980.
174. Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск. 1997.
175. Роуз С. Устройство памяти: от молекул к сознанию. М., 1995.
176. Сабощук А.П. О чувственных предпосылках мышления. Проблема адекватности и идеальности чувственного образа. Кишинев, 1984.
177. Савельев С.В. Происхождение мозга. М., 2005.
178. Савенков В.Я. Новые представления о возникновении жизни на Земле. Киев, 1991.
179 Сартр Ж.П. Бытие и ничто. М., 2002.
180. Сарфати Д. Пятнадцать способов опровергнуть материалистический вздор: ответ журналу ‘Scientific American’. (Интернет-ресурс).
181. Семенов Ю. Сознание в Мультиверсе // Сайт Международного центра эвереттических исследований (МЦЭИ). 2006.
182. Серл Дж. Открывая сознание заново. М., 2002.
183. Серл Дж. Природа интенциональных состояний // Философия. Логика. Язык. М. 1987.
184. Серл Дж. Разум мозга — компьютерная программа?// В мире науки. 1990. №3. С.7-13.
185. Симаков Ю. Г. Информационное поле жизни // Химия и жизнь, 1983. №3.
186. Слинин Я.А. Трансцендентальный субъект. Феноменологическое исследование. Спб., 2001.
187. Смирнов А.В. Логика смысла. М., 2001.
188. Сознание и физический мир. М., 1991.
189. Соколов Е.Н., Вайткявичус Г.Г. Нейроинтеллект: от нейрона к нейрокомпьютеру. М.,1989.
190. Солбриг О., Солбриг Д. Популяционная биология и эволюция. М., 1982.
191. Соловьев В. С. Чтения о богочеловечестве // Соловьев В. С. Сочинения. М., 1994. С. 119-121.
192. Соловьев В.С. Кризис западной философии // Сочинения в 2 т. Т.2. М., 1990.
193. Соловьев В.С. Критика отвлеченных начал //Сочинения. Т.1. М., 1990.
194. Соловьев В.С. Философские начала цельного знания // Философские начала цельного знания. Минск, 1999.
195. Соссюр Ф. Заметки по общей лингвистике. М., 1990.
196. Сперри Р.У. Перспективы менталистской революции и возникновение нового научного мировоззрения //Мозг и разум. М., 1994. С.20-44.
197. Спивак Д.Л. Язык при измененных состояниях сознания. Л., 1989.
198. Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. М., 1972.
199. Спрингер С., Дейч Г. Левый мозг, правый мозг. М., 1983.
200. Старикова И.В. Роль мысленных экспериментов в понимании природы сознания // Философия науки. Новосибирск. 1999. №2. (6).
201. Тремнер Е. Гипнотизм и внушение. Кишинев, 1991.
202. Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. М. 1994.
203. Трубецкой С.Н. Основания идеализма // Русские философы конца Х1Х — середины ХХ века. М.,1994.
204. Тугаринов В.Л. Философия сознания. М., 1971.
205. Тулмин С. Человеческое понимание. М., 1984.
206. Уитроу Д. Естественная философия времени. М., 1964.
207. Успенский В.А. Теорема Геделя о неполноте. М., 1982.
208. Фламмарион К. Неведомое. М., 2001.
209. Фихте И.Г. Назначение человека // Фихте И. Факты сознания. Назначение человека. Минск — М., 2000.
210. Фишбах Д.Д. Психика и мозг //В мире науки.1992. № 11-12. С.10-20.
211. Франк С.Л. Духовные основы общества. М., 1992.
212. Франк С.Л. Непостижимое //Сочинения. М., 1990.
213. Франк С.Л. Предмет знания. Душа человека. СПб., 1995.
214. Франк С.Л. Реальность и человек // Реальность и человек. М., 1997.
215. Фреге Г. Смысл и денотат // Семантика и информатика. 8 выпуск. М., 1977.
216. Хайнц Т. Творение или эволюция. Чикаго, 1983. C. 56.
217. Харченко Е.П., Клименко М.Н. Пластичность мозга // ‘Химия и жизнь — XXI век’
218. Хилл Т.И. Современные теории познания. М., 1965.
219.Хант Г. О природе сознания. М., 2004.
220. Хомская Е.Д. Нейропсихология. М., 1987.
221. Хорган Д. Квантовая философия // В мире науки. 1992. №9-10. С. 70-80.
222. Хюбнер К. Критика научного разума. М., 1994.
223. Цехмистро И.З. Диалектика множественного и единого. Квантовые свойства мира как неделимого целого. М., 1972.
224. Цехмистро И.З. О вакууме и пред-вакууме // О первоначалах мира в науке и теологии. М., 1993. С. 182-191.
225. Цехмистро И.З. Поиски квантовой концепции физических оснований сознания. Харьков, 1981.
226. Чавчанидзе В.В. К квантово-волновой теории когерентного мозга. Структура когерентного мозга // Бионика. Киев, 1973.
227. Чуприкова Н.И. О психике и ее материальном субстрате в свете тенденций современной нейрофизиологии // Теория функциональных систем в физиологии и психологии. М., 1978.
228. Чуприкова Н.И. Психика и сознание как функция мозга. М.,1985
229. Шелдрейк Р. Новая наука о жизни. М, 2005.
230. Шеллинг Ф.В.И. Сочинения в 2-х Т. М., 1987.
231. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т 1. М., 1993.
232. Шорохова Е.В. Проблема сознания в философии и естествознании. М., 1961.
233. Штумпф К. Душа и тело // Новые идеи в философии. №8. 1913.
234. Щедровицкий Г.П. Смысл и значение // Избранные труды. М., 1995.
235. Эйген М. Самоорганизация материи и эволюция биологических макромолекул. М.,1973
236. Электрическая стимуляция мозга и нервов у человека. Л.,1990.
237. Эрдман Б. Научные гипотезы о душе и теле. М., 1910.
238. Юм Д. Сочинения в двух томах. Т.1. М., 1965.
239. Ярвилехто Т. Мозг и психика. М., 1992.
240. Ярошевский М.Г. История психологии. М., 1985.
241. Яхьи Х. Обман эволюции. Стамбул, 2000.
242. Albert D.Z. A Quantum-mechanical automaton // Philosophy of Science. 1987. 54.P. 577-585.
243. Armstrong D.M. Materialist Theory of Mind. L., 1969.
244. Baars B.J. Can Physics Provide a Theory of Consciousness // Psyche. 1995. 2(8).
245. Baars B.J. In the theatre of consciousness: the workspace of the mind, NY, 1997.
246. Barrow J.D., Tipler F.J. The antropic cosmological principle. Oxford, 1986.
247. Bass L. A quantum mechanical mind-body interaction // Foundation of Physics, №5, pp. 155-172. 1997.
248. Bennet C.H. et al. Strenghts and weakness of quantum computation, Los Alamos Preprint, Dc 1, 1994.
249. Bennett C.H., DiVincento D.P. Progress Towards Quantum Computation // Nature. 1995. 9/20.
250 Block N. On a confusion about a function of consciousness, 1994, MS.
251. Block N. The computer model of the mind // An Invitation of Cognitive Science. 1990. Vol.3.
252. Block N. The Mind as the Software of the Brain. — N.Y.: New York University Press, 1997.
253. Block N., Fodor J. What Psychological States are Not // Philosophical Re-view . 1972. 81. Pp. 159-181.
254. Bock J.K. Towards a cognitive psychology of syntax: Information processing contributions to sentance formulation // Psychological Review, 1982, 89, pp.1-47
255. Bohm D. A Suggested Interpretations of Quantum Theory in Terms of ‘Hidden Variables’// Physical Review. 1952.,85
256. Bohm D. Wholeness and the Implicate Order. L.,1983.
257. Braunstein S.L. Quantum computation: a Tutorial. MS.
258. Bridgeman P.W. Some general principles of operational analisis // Psycho-logical review. Vol. 52. №5.
259. Bringsjond S. The Zombie attak the computational conception of mind, 1997, MS.
260. Castagnoli G. Quantum Steady Computation // Int. Jorn. Of Modern physics. B.1991. Vol.5, 13. P.2253-2269.
261. Chalmers D.J. A Computational Foundation for the Study of Cognition. MS.
262. Chalmers D.J. Facing Up to the Problem of Consciousness // Journal of Consciousness Studies. 2 (3). 1995. P. 200-219.
263. Chalmers D.J. Mind, Machines and Mathematics // Psyche, 1995, 2(9).
264. Chalmers D.J. Moving Forward on the Problem of Consciousness. MS.(1996).
265. Chuang I. L. et al. Nature (London), 393 143 (1998).
266. Chuang I.L., Gershufeld N. , Kubinec, M. Experimental implementation of fast quantum searching, Physical review letters, 80, (15), 3408 — 3411 (1998).
267. Clark T.W. Function and phenomenology: closing the explanatory gap // Explanding Consciensness. MIT Press, 1997.
268. Copeland B.J. Turing’s o-machines, Searle, Penrose and the brain. MS (1996).
269. Costa de Beauregard O. Time Symmetry and the Einstein Paradox.1// Nuovo cimento, 1977,B 42, 1.P.41-64; 1979, B51,2.P.267-279.
270. Del Giudice E. et al. Structures, Correlations and Electromagnetic Interaction in Living Matter: Theory and Applications // Biological Coherense and Response to External Stimuli. Springer-Verlag, 1988.
271. Dennett D. Consciousness Explanded. Boston, 1991.
272. Dennett D., Kinsbou M. Time and Observer: the Where and When of Consciousness in the Brain // , 1992. 15(2), pp.183-247
273. Deutsch D. Quantum Theory, the Church-Turing Principle and the Universal Quantum Computer // Proc. Roy. Soc. L., A400. 1985.№96.
274. Dummett M. What is a theory of meaning? // Mind and language. Oxford. 1975 (1), Truth and meaning. Oxford. 1977 (2).
275. Everett H., “Relative State“ Formulation of Quantum Mechanics //Rev. Mod. Phys. 1957. V. 29. № 3.
276. Feferman S. Penrose’s Godelian Argument // Psyche. 1995. 2 (7).
277. Feigle H. The «Mental» and the «Physical». Minneapolis, 1976.
278. Feser F. Haek’s solution to the mind-body problem. MS.
279. Feyerabend P. Materialism and the Mind-Body Problem // Modern Materialism: Reading on Mind-Body Identity. N.Y., 1969.
280. Feynman R. Simulating Physics with Computers // Int. Journ. Of Theoretical Physics. 1982. Vol.21, 6/7. P. 467-488.
281. Fodor J., Lepor E. Holism: A Shopper’s Gude. Oxford, Cambridge, Mass. 1992.
282. Fodor J.A. The Mind-Body Problem // Sci. Amer., 1981.№1. P.114-123.
283. Friedman J.R. et al. Nature, 2000, 40, p. 43.
284. Frolich H. Coherence in Biology // Coherent Excitations in Biological Systems. Berlin, 1983.
285. Frolich H. Long-range Coherense and Emergy Storage in Biological Systems // Int. J. Quantum Chem. 1968. 11.
286. Gish D.T. Speculations and Experiments Related to theories on the Ori-gin of Life: a Critique. 1972. P. 8.
287. Globus G. Quantum Consciousness is Cybernetic // Psyche. 2 (21). 1996.
288. Goswami A. Consciousness in quantum phisics and the mind-body problem // Journal of Mind and Behavior. № 11, pp. 75-96. 1990.
289. Goswami A. The Self-aware Universe. Haw Consciousness Creates the Material World. N.Y.,1993.
290 Gray J.A. The content of consciousness: a neuropsychological conjecture // Behavioral and Brain Sciences, 1995, 18(4), pp.659-722.
291. Griffin D.R. Panexperientalist phisicalism and the mind-body problem. MS.
292. Grover L.K. A fast quantum mechanical algorithm for datebase search // Proceedings, STOC, 1996.
293. Grover L.K. Quantum computers can search arbitrarily lage datebases by a single query, Physical review letters, 79, (23), 4709 — 4712 (1997).
294. Hameroff S. Quantum coherence in microtubules: A Neural Basis for Emergent Consciousness.// Journal of Consciousness Studies. 1994.№1. P.91-118.
295. Hameroff S., Penrose R. Orchestrated Reduction of Quantum Coherence in Brain Microtubules: A Model of Consciousness // Toward a Science of Consciousness. The First Tucson Discussions and Debates. Tucson. 1996.
296. Hampshire S. Critical notice of Ryle The Concept of mind // Mind. LIX. 234. 1950. 237-255.
297. Hartle J.B. Quantum Pasts and the Utility of History // Phisica Scripta.Vol.T76, p. 67-77, 1998.
298. Hempel C.G. The logical Analysis of Psychology // Readings in Philo-sophical Analysis. N.Y. 1949.
299. Hirvensalo M. Copyng quantum computer makes NP-complete problems tractable // TUCS Technical Report № 161.1989.
300. Hogg T. Highly structured searches with quantum computers // Physical review letters, 80, (11), 2473 — 2476 (1998).
301. Holender D. Semantic activation without conscious identification in dichotic listening, parafoveal vision, and visual masking // Behavioral and Brain Sciences, 1986, 9, pp.1-66.
302. Jackson F. What Mary didn’t know // J. of philosophy. 1986.83. pp.291-295;
303. James E.W. Mind-Body Continuism: Dualities without Dualism // The Journal of Speculative Philosophy. Vol.V, №4. 1991.
304. J. Soc. Psych. Res. 1999 — 63, №877. P. 268 – 291.
305. Kahneman D., Treisman A. Changing views of attention and automaticity // Varieties of Attention, 1984, Academic Press.
306. Kervran C. Louis. «Biological Transmutations.» Binghamton, New York Swan House рublishing Co., 1972.
307. Kripke S.A. Naming and Necessity // Semantics of Natural Language. Dor-drecht. 1971. Pp 253-355 and 763-769;
308 Levitin. L B. , Toffoli T. The fundamental limit on the rate of quantum dynamics: the unified bound is tight // arXiv.org > quant-ph > arXiv:0905.3417v2
309. Lewis J.L. Semantic processing of unattended messages using dichotic listening // Jornal of Experimental Psychology, 1970, 85, pp.220-227.
310. Little W. A Possibility of Sinthesizing an Organic Superconductor // Phys. Rev. 1964. A 134. H.1416-1424.
311. Lockwood M. Mind, Brain and Quantum: The Compound I. Oxford, 1989.
312. Lockwood M. The Grain Problem // Objections to Phisicalism. Oxford,1993, pp.271 — 291.
313. Lucas J.R. Mind, Machines, and Godel // Philosophy, 1961, 36, pp. 112-127.
314. Ludwig K. Why the Difference Between Quantum and Classical Physics is Irrelevant to the Mind-Body Problem // Psyche. 1995. 2 (16).
315. Maudlin T. Between the Motion and the Act // Psyche. 1995. 2.
316. McCarthy J. Awareness and Anderstending in Computer Programs // Psyche. 1995. 2 (11).
317. McCullouhg D. Can Humans Escape Godel? // Psyche. 1995. 2 (4).
318. McDermott D. Penrose is Wrong // Psyche. 1995. 2 (2).
319. McGinn C. The Problem of Consciousness. — Oxford: Blackwell, 1990.
320. Moravcsik J.M. E. How do words get their meanings? // Journal of Philosophy. 1981. 78. P. 5-23;
321. Moravec H. Roger Penrose’s Gravitonic Brains // Psyche. 1995. 2 (6).
322. Morris P.B., Hampson P.J. Imagery and Consciousness. L.,1983.
323. Oakley A.D., Eames L.S. The plurality of consciousness // Brain and mind, 1985, Methuen,pp.217-251.
324. Oteri L, ed. Quantum physics and parapsyhology. NJ. 1975.p.283..
325. Penfield W., Perot P. The Brains Record of Audial and Visual Experience // Brain.1963. Vol.83.P.595-601.
326. Penrose R. Beyond the Doubting of Shadow // Psyche. 1996. 2(23).
327. Penrose R. Shadows of the Mind. L., 1993.
328. Pitkanen M. Basic Ideas of TGD inspired Theory of Consciousness. MS.
329. Pitkanen M. Model of Soul MS. (1996).
330. Quine W.V.O. Word and Object. N.Y. 1960
331. Rassell B. An inquiry into meaning and truth. N.Y. 1940;
332. Riccardi L.M., Umezawa H. Brain and Physics of Mand-Body Problems // Cybernetic. 1967.4, 44.
333. Rorty R. In Defence of Eleminative Materialism // Materialism and the Mind-Body Problem. L., 1971.
334. Sarfatti J. Is Consciousness a Violation of Quantum Mechanics? // Toward a Science of Consciousness. The First Tucson Discussions and Debates. Tucson, 1996.
335. Schacter D.L. Implicit memory: History and current status // J. of Experimental Psychology: Learning,Memory and Cognition, 1987,13, pp. 501-518.
336. Schreider J. Time and the Mind-Body Problem: a Quantum Perspective // Psychoanalysis and Physics. N.Y., 1996.
337. Searle J. The Mystery of Consciousness. N.Y. 1997.
338. Shanon B. The function of consciousness // Toward a science of consciousness. The first Tucson discussion and debates, Tucson,1996.
339. Shoemaker S. The inverted spectrum // J. of philosophy. 1982. 79. pp.357-381;
340. Shor P.W. Algorithms for Quantum Computation: Discrete Log and Factoring // Proceedings of the 35th annual Symposium on the Foundations of Computer Science. IEEE. Computer Society Press. 1994. P.124.
341. Smart J.J. Philosophy and Scientific Realism. L., 1963.
342. Stapp H.P. Mind, Matter, and Quantum Mechanics. Berlin. 1993.
343. Stapp H.P. Nonlocal character of quantum theory. MS. (1996).
344. Stapp H.P. What you are. MS (1996).
345. Stapp H.P. Why Classical Mechanics Cannot Naturally Accommodate Consciousness bat Quantum Mechanics Can // Psyche. 2 (21). 1996.
346. Stenger V.J. The Myth of Quantum Consciousness // The Humanist. 1992.Vol.53, №3. P.13-15.
347. Toward a Science of Consciousness. The First Tucson Discussions and Debates. Tucson. 1996.
348. Treisman A.M., Squire R.,& Green J. Semantic processing in dichotic listening? A replication // Memory and Cognition, 1974,2, pp.641-646.
349. Tye M. Qualia // Stanford Encyclopedia of Philosophy , 1997.
350. Tye M. The subjective Qualities of Experience // Mind. 1986. 95. pp. 1-17.
351. Velmans M. The relstion of consciousness to the material world // Journal of Consciousness Studies. 1995. 2(3), pp. 55-265.
352. Velmans M. Consciousness from a first-person perspective // Behavioral and Brain Sciences, 1991, 14 (4), pp 702-719.
353. Velmans M. Is Human Information Processing Conscious? // Behavioral and Brain Sciences, 1991, 14, pp.651-726.
354. Velmans M. The Limits of Neurophysiological Models of Consciousness // Behavioral and Brain Sciences. 18 (4), pp. 702-703. 1995.
355. Walker E.H. The Nature of Consciousness // Mathematical Biosciences. 1970.№7.P.131-178.
356. Wigner E.P. Remarks on Mind-Body Problem // Quantum Theory and Measurement. Prinsceton, 1983. P.168-181.
357. Wheeler J.A. Law without law // Quantum theory and measurement. Prinston, 1983.++Physical
358. Panitchayangkoona G. , Voronineb D.V., Darius Abramaviciusc,d, Justin R. Carama J.R,, Lewisa N., Shaul Mukamele S., Engel G.S. Direct evidence of quantum transport in photosynthetic light-harvesting complexes. // Proceedings of the National Academy of Sciences. October 17, 2011