UPD: 27.12.23

Александр Эткинд (родился 30 августа 1955 г, Санкт-Петербург, Россия) — историк и культуролог. Профессор истории и заведующий кафедрой российско-европейских отношений в Институте Европейского университета. Является научным сотрудником Европейского института международного права и международных отношений.
Основные области научных интересов — интеллектуальная история, история культуры, русская история; темы — историческая память, внутренняя колонизация, история природных ресурсов.
В 1978 году он получил степень бакалавра и магистра в области психологии и английского языка в Ленинградском государственном университете. В 1998 году защитил докторскую диссертацию по славяноведению истории культуры в Хельсинкском университете. Эткинд преподавал в Европейском университете в Санкт-Петербурге, затем в Кембриджском университете, где он также был членом Королевского колледжа. Он был приглашенным научным сотрудником в Нью-Йоркском университете, Виссеншафтском колледже в Берлине и других местах.
Исследования Эткинда сосредоточены на европейской и российской интеллектуальной истории, исследованиях памяти, природных ресурсах и истории политической экономии, империи и колониях в Европе, а также российской политике, романах и кино в 21 веке.
Природное зло: культурная история природных ресурсов — это мировая история (с особым акцентом на Россию) экономической и политической роли зерна, мяса, меха, сахара, конопли, металлов, торфа, угля и нефти.
С 2010 по 2013 год он руководил международным исследовательским проектом “Память на войне: культурная динамика в Польше, России и Украине”. Проект изучал роль культурной памяти советской эпохи в России, Украине и Польше и получил финансирование от Humanities in the European Research Area (HERA).
Эткинд имеет публикации на русском и английском языках и владеет обоими языками.
Избранные публикации
«Алексей Навальный: Герой нового времени». Новые перспективы (2022): 2336825X211065909.
Переосмысление Гулага: личности, источники, наследие Издательство Университета Индианы, 2022 год, с Ириной Анатольевной Флидж, Сьюзан Грюневальд, Джеффри С. Харди, Михаилом Наконечным, Джудит Паллот, Гэвином Слейдом, Линн Виола, Джозефиной фон Зитцевиц и Сарой Дж. Янг.
Природное зло: культурная история природных ресурсов Polity Press, 2021. выдержка; см. Онлайн-обзор
Эрос невозможного: история психоанализа в России. Ратледж, 2019 год, с Марией Рубинс. онлайн-обзор
«Петромачо, или Механизмы демодернизации в ресурсном государстве». Российская политика и право 56.1-2 (2018): 72-85. онлайн
«Период подчинения Канта: рождение космополитизма из Духа оккупации». в книге «Космополитизм в конфликте» (Пэлгрейв Макмиллан, Лондон, 2018) стр. 55-83.
Дороги не пройдены. Интеллектуальная биография Уильяма К. Буллита.Издательство Питтсбургского университета, 2017. онлайн-обзор
Культурные формы протеста в России, в соавторстве. совместно с Б. Боймерсом, О. Гуровой и С. Туромой. Нью-Йорк: Routledge, 2017.
“Как Россия колонизировала саму себя. Внутренняя колонизация в классической российской историографии”, Международный журнал истории, культуры и современности, том 3, № 2, 2015, стр. 159-172.
“Постсоветская Россия: Страна Нефтяного проклятия, Pussy Riot и магического историзма” Граница 2, Том 41, № 1, 2014, стр. 153-170.
Память и теория в Восточной Европе, в соавторстве. с У. Блэкер и Дж. Федор, Нью-Йорк: Palgrave Macmillan, 2013.
Искаженный траур. Истории о нежити в Стране непогребенных, Пало-Альто: Издательство Стэнфордского университета, 2013.
Вспоминая Катынь. Cambridge: Polity 2012, в соавторстве
Внутренняя колонизация. Имперский опыт России, Кембридж: Политика, 2011
“Притча о неузнаваемости: анагноризис и возвращение репрессированных из Гулага”, Russian Review 68 (октябрь 2009): 623-40
“Истории о нежити в Стране непогребенных: магический историзм в современной русской художественной литературе” Славянское обозрение 68, № 3, осень 2009, стр. 631-658.
Хлыст: Секты, литература и революция (The Russian Flagellant: Sects, Literature, and Revolution) Moscow: NLO 1998; second revised edition: 2013
Эрос невозможного: История психоанализа в России. Боулдер — Оксфорд: Вествью, 1996
******************************************************
Александр Эткинд: «Новый кризис будет иметь характер Смутного времени»
Июль 19, 2020, 08:30
Имя историка, профессора Европейского университета во Флоренции, долгое время было известно прежде всего среди специалистов по русской культуре, однако две его книги неожиданно привлекли внимание всех, кто интересуется экономическими вопросами. Вышедшая в 2013 году книга «Внутренняя колонизация: Имперский опыт России» рассказывает о том, как Российская империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизуя многие народы, включая самих русских. Ну а вышедшая в нынешнем году и вызвавшая активную полемику книга «Природа зла. Сырье и государство» посвящена такой актуальной для России темы, как связь сырьевой экономики с политической системой — причем отнюдь не только в российской истории. «Инвест-Форсайт» беседует с Александром Эткиндом о важнейших идеях его новой книги.
У природных ресурсов есть «культурная история»
— Александр, по образованию вы психолог, занимались историей культуры. Как же так вышло, что вы стали автором двух получивших большую известность книг по истории экономики — я имею в виду книгу о внутренней колонизации России и вашу последнюю книгу о сырьевой экономике?
— Мои книги не совсем по истории экономики, хотя и тесно связаны с ней. Я по-прежнему называю то, чем занимаюсь, культурной историей, например, тема моей последней книги — культурная история природных ресурсов. У меня два образования и две ученые степени, по психологии и истории культуры. Я рад и горд, что когда-то, не строя особых планов (скорее удовлетворяя свое любопытство), я утвердил свое право заниматься социальными науками в очень широком диапазоне. Именно так, социальными науками: я причисляю к ним и психологию, и историю, и многое другое.
Но раз уж вы начали с этого вопроса, скажу больше: ученые люди не крепостные крестьяне, они свободно перемещаются в дисциплинарном пространстве. Никто не праве упрекнуть юриста Макса Вебера в том, что он занимался социологией (и все больше — историей), или философа Мишеля Фуко в том, что он (как и я, так уж совпало, только я совсем не философ) начал с психологии и занимался историей, или философа Бруно Латура в том, что он начал с социологии и занимается климатом, или Джеймса Лавлока, врача по образованию, в том, что он патентовал приборы по изучению климата и придумал философскую концепцию Геи.
Вы наверняка читали про междисциплинарность — это теперь (так говорят уж последние лет пятьдесят) ключ к успеху в науке, и про вторую-третью карьеру, и про креативность. А на деле университеты так и состоят из факультетов, как это было при Иммануиле Канте (уже он писал про «войну факультетов», вечным миром там и не пахло), карьеры делаются исключительно внутри них, а шаг в сторону рассматривается как побег. На моих глазах это все только усилилось благодаря сказочному росту числа и влияния университетских администраторов и соответствующему падению власти (и даже относительной численности) работающих ученых.
Менеджер — он и есть менеджер: не обучен ничему, кроме «роста», то есть чтоб того же самого было еще больше. Ученые — тем более эксперты в социальных науках — верят в творчество, а не в рост. При этом все продолжают талдычить про междисциплинарность, а на деле строят заборы и границы. Этот конфликт существует везде, где я работал: и в России, и в Европе, и в Америке. Особенно, кстати говоря, в Америке. Но так было и в позднем СССР, который я слишком хорошо помню: партийные руководители, не занимавшиеся ничем, кроме работы с кадрами, поклонялись «профессионализму» и травили публичных интеллектуалов. Я часто думаю, что советская традиция проиграла войну, но выиграла мир. Так когда-то говорили про американский Юг.
— Словосочетания «голландская болезнь», «нефтяная игла», «сырьевое проклятие» стали широко известными уже довольно давно. Что нового сверх этих концепций вы открыли для себя, работая над книгой «Природа зла»? Можно ли попросить вас кратко изложить некоторые важнейшие идеи книги?
— Попросить, конечно, можно, но лучше бы вы посоветовали нашим общим читателям прочесть саму книгу. Она не о нефти и даже не о сырье, но о том, как устроен мир. Сегодня этот наш общий мир, в котором мы живем, мало кому нравится, он как-то разом потерял саму способность нравиться. Историки знают, что так уже бывало, и не раз: радикализация — черта кризиса. Возможно, это даже хорошо: мир не червонец, чтоб всем нравиться, а кризис не должен пропасть впустую. Плохо, что радикализация идет вразнос, странным образом расщепляя современные и дееспособные общества: США, Польшу и т.д. — ровно напополам, как будто кто-то заранее это рассчитал и потом разрезал, пользуясь завидно точными инструментами. Мир теперь не нравится всем, но одной половине не нравится в точности то, что нравится другой половине, и от этого всем все не нравится еще больше. В семье это кончается разводом, в обществах иногда вело к массовым миграциям. Но мир переполнен, миллионам людей разъехаться некуда. Остается надеяться на демократию, но она мало на что способна, когда успех решается полупроцентом голосов, в которые никто не верит. Можно еще надеяться на автократов, но они идиоты: так было всегда, просто с ковидом стало очень заметно.
Возвращаясь к моей книге, я вижу в ней не более — но и не менее — чем свидетельство эпохи. Мне хотелось понять, откуда растут корни этого нелюбимого мира, почему его не удалось изменить, отчего столь многие усилия дали нам научные открытия, лекарства и гаджеты, но не улучшили мир. Я вовсе не претендую на новизну всех моих суждений, оценок и объяснений. В книге много ссылок на моих предшественников, но важнее то, что большая ее часть, примерно треть, рассказывает об интеллектуальной истории моих и других идей: о том, что разные люди в разные времена в разных странах, имевшие разные интересы, думали о природе и зле, сырье и государстве. Среди них были те, кто придумал новые (ну, им тоже примерно полстолетия) слова типа «голландская болезнь» или «сырьевая зависимость». Вот нефтяная игла — интересная метафора: в ней выражена та же интуиция наркотической зависимости от монопольного (или картельного) сырья, что и в разных главах моей книги — тех, что про сахар, опиум, чай с кофе и, конечно, нефть. Но моя книга — не только про аддикцию, там есть и более спокойные темы.
— Работая над книгой, вы стали сторонником географического детерминизма?
— Скорее наоборот. Основой моих рассуждений были ситуации, в которых географическая неравномерность распределения природных ресурсов порождает торговлю, различия политических устройств и, в конечном итоге, различия в богатстве народов. Я показываю, что классики экономической мысли, например, Адам Смит, недооценивали эти природные факторы, и подробно объясняю, почему это происходило, какой интерес у них был к такой недооценке (в колониальную эпоху интерес этот был отчасти связан с расизмом, а отчасти — с конкуренцией между империями).
Но меня особенно интересовали ситуации, в которых очевидные географические различия в добыче ресурсов определялись не природой месторождений, а чем-то еще — трудом, знанием или транспортными путями (последние, впрочем, тоже определяются природой). Конопля, к примеру, растет почти везде, где живет человек, но неравномерность ее промышленного освоения порождала политические последствия огромного значения. Я об этом рассказываю и в связи с русской опричниной, и в связи с наполеоновскими войнами. Я честно, безо всяких «измов», пытаюсь разобраться в причинах и следствиях такой зависимости.
У географического детерминизма заслуженная история — к нему приписывают Монтескье, Гердера, Ключевского. Сегодня в связи с климатом и ковидом эти идеи по-новому привлекательны; я бы согласился не с кликухой «географический детерминизм», но с какой-то другой — может быть, «новый натурализм», или просто «новое Просвещение». Но Вольтер, которого много в моей книге, верно писал, не зная и полпроцента того, что знаем мы: «Климат обладает определенной силой, но правительства во сто крат сильнее, а религия еще сильнее правительств».
О русской истории через призму «добычи сырья»
— Можно ли историю России разделить по эпохам, связанным с разными видами сырья?
— Я не делю историю на новые эпохи, а разбираюсь в сырьевых зависимостях, которыми жили люди в разные времена, хорошо известные историкам. В том, что Россия в разные времена зависела от сырьевых промыслов, мало удивительного: огромная малонаселенная территория для того и была нужна, тому и служила — от Крыма до Аляски, она была завоевана отчасти ради промыслового сырья, отчасти для того, чтобы обеспечить пути его доставки.
Но тезис моей книги в том, что разные виды сырья обладают разными политическими свойствами и порождают разные социальные институты: пушная торговля — одни, пенька — другие, зерно — третьи, а были еще металлы, уголь, нефть. Во всем этом я подробно разбираюсь — показываю, например, зависимость средневековой Москвы от пушной торговли, а опричнины — от конопляного хозяйства на Белом море. Опричнину помнят по ее зверствам, но надо понимать и то, что это был продвинутый в сравнении с другими реальный проект внутренней колонизации: нечто вроде особой экономической зоны на русском Севере. Свободные, незакрепощенные поморы там напрямую торговали пенькой с англичанами и голландцами. А чтобы охранять торговлю от внутренних угроз, Москве пришлось разделить свою землю на продуктивную опричнину и застойную земщину.
Опричнина очень интересна. Она была названа от слова «опричь» — кроме, особо, исключительно. Слово это никогда не переводили на английский, как будто это имя собственное. А я перевожу «опричнину» как чрезвычайное положение, the state of exception. Эксперимент закончился печально, как и другие реформы такого рода — заметьте, не потому что закончилось сырье; конопли на этих болотах можно было развести и на три Королевских флота. Смутное время было типическим моментом смены сырьевой платформы: меха в московской казне закончились, шведы угрожали путям доставки пеньки. Если сырьевому государству нечем платить своим силовикам-наемникам, всегда начинается смута. Англичане, полностью зависевшие от русской пеньки, планировали прямую колонизацию Белого моря, как они это сделали с Ирландией и Вирджинией; но статус русской колонии был бы выше, вице-королем там должен был стать принц Чарльз. Потом планы изменились: те же англичане помогли заключить Столбовский мир. Шведская угроза их интересам ушла, конопляная торговля возобновилась. Тот принц стал королем, a потом его казнили на эшафоте. Кто знает, может, на русском Севере его ждала бы лучшая судьба. Но об этом надо писать роман, что не по моей части.
— Как вы связываете природу сырьевой экономики с теми страшными политическими изменениями, которые пережила Россия в XX и XXI веках?
— О, это бесконечная тема. В моей книге об этом многое сказано, но можно было б и написать целую энциклопедию — видите, из моей головы не выходит Вольтер. Падавшие цены на зерно, проблемы в снабжении несоразмерной армии (союзники давали кредиты, но не могли их обеспечить поставками), пожары на нефтяных приисках Баку (где начинали свою подпольную карьеру многие большевики — Иосиф Сталин, Лаврентий Берия, Сергей Киров), забастовки в Донбасе, хлебные бунты в Петрограде — все это делало свои вклады в кризис, новое Смутное время.
Денежные потоки только в мирное время соответствуют сырьевым и товарным; любой кризис ведет к их расхождению — в одном месте деньги есть, а сырья и товаров нет, в другом — наоборот. О связи падавших цен на нефть с распадом СССР было написано очень много, но я надеюсь, мне удалось сказать что-то новое. Вместе с украинскими соавторами, кстати, мы собрали интересный материал (он не вошел в книгу и публикуется отдельно) о массовом участии украинских нефтяников в разработке западносибирской нефти в 1980-х годах. Что касается XXI века, тут сомнений нет: новый кризис будет иметь характер Смутного времени, то есть смены сырьевой платформы. Конечно, не потому что кончится нефть.
Взгляд на сегодняшний день
— На ваш взгляд, какие из постсоветских стран более всего подвержены эффекту «сырьевого проклятия»? Что в этой связи можно сказать об Украине и Беларуси?
— Украина, как известно, сильно зависит от миллиардов, которые получает за транзит российского газа через свою территорию. Это сильнейший фактор коррупции и инерции. На деле, если бы российские планы перенести этот транзит в другие места осуществились, это было бы большим благом для Украины. В моей книге я показываю на разных примерах, что главными выгодополучателями и, соответственно, развратителями (ведь «коррупция» по-русски — это просто «разврат») являются не добытчики сырья, а его перевозчики. Я называю их кураторами сырьевой торговли.
Про Беларусь вы, наверное, больше меня знаете. Российский транзит, в конечном итоге оплаченный нефтью, есть и там. Все же там удалось создать самое трудозависимое государство из всех постсоветских стран, конечно, за исключением Балтии. Много раз я слышал от простых людей России и Украины, что они относятся к белорусским успехам с уважением и завистью. Непростые люди, увы, недовольны: страна эксплуатирует советское наследство, ей не нужны ни знания, ни университеты. Вообще, ситуация с наукой на постсоветском пространстве равномерно плохая. Я не раз спрашивал украинских коллег, почему так вышло, что итогом Майдана — студенческой революции — не стала университетская реформа. Ответа я не получил.
— Можно ли, на ваш взгляд, говорить об уменьшении влияния фактора сырья на экономику и политику России в последнее время?
— Конечно, если смотреть на цифры, влияние уменьшилось: сначала упали цены нефти и газа, потом пришлось согласиться на квоты. В мирное время это привело бы к падению рубля и импортозамещению. Но время у нас немирное, и в этом своя насмешка судьбы. Кризис — временное дело, на ковид все можно списать, авось, он пройдет — и все будет как прежде. Но это иллюзия. Пандемия когда-нибудь пройдет, но как прежде никогда не будет. По тысяче разных причин, в первую очередь из-за климата и радикальных европейских планов карбон-нейтральной экономики. Надеюсь, к ним скоро присоединятся похожие американские программы; одна уже обнародована. Хотя для России хватит и Европы, это ее основной клиент.
— Как бы вы могли представить себе картину (или «сценарий») избавления России от сырьевой зависимости?
— Ну, это сегодня из разряда sci-fi. Сценарий такой я легко напишу, если мне его закажут; другое дело, процесс настолько сложен и полон развилок, что картин равной степени правдоподобия может быть много. Империи всегда создавались ради сырьевых колоний, но потом забывали об этом. Реформа или революция в такой забывчивой империи часто вела к ее распаду, но это необязательно. Британская империя, например, распадалась очень долго: сначала она потеряла американские колонии, потом — Индию, а вот Шотландия все еще в ней. Ни из чего (ни из теории, ни из истории) не следует, что какой-то из сценариев более вероятен, чем другой. В любом случае, избавление от сырьевой зависимости означает переход на трудозависимую экономику. А в ней более вероятно, что люди наконец скажут: нет представительства — не будет налогов. Потому что природа, в отличие от народа, сказать такое неспособна. У нее другие методы сопротивления: климат, ковид — наверное, нас ждут и новые сюрпризы.
Книга издана. Что дальше?
— Ваша книга вызвала много отзывов и критики. Извлекли вы из них что-то полезное?
— Я рад любым отзывам, особенно критическим. Даже напечатанная на бумаге, книга продолжает жить. Я сейчас работаю вместе с британским переводчиком над ее английским вариантом. Планирую новое русское издание, веду переговоры о немецком переводе. Поэтому любое замечание, особенно фактическое, для меня очень важно; я такие замечания с благодарностью учитываю. Моя книга переполнена именами, датами и прочими подробностями. Ошибки в ней неизбежны, я к ним отношусь со всей серьезностью.
— Какой темой вы занимаетесь теперь? О чем будет ваша новая книга?
— Сейчас я занимаюсь преподаванием и грантами. У университета, где я служу, уникальный статус: все профессора тут еврочиновники. Это очень хорошо, но мой контракт заканчивается через два года. Так что я думаю о том, что будет дальше. Думаю и о возвращении в Россию. Открыт любым предложениям.
Беседовал Константин Фрумкин //https://www.if24.ru/aleksandr-etkind-novyj-krizis/?ysclid=l7sxy3gu4a717822820
********************************************************************************************
Александр Эткинд: «Власть чужда всем»

Расшифровка лекции «Внутренняя колонизация: критическая теория паразитического государства» в рамках проекта Фонда Егора Гайдара «Мировой класс»
Эта лекция основана на книге «Внутренняя колонизация», но по большой части выходит за ее рамки. Так что надеюсь когда-нибудь написать книгу, в которой эта моя лекция будет главным содержанием.
Лекция будет состоять из двух частей. В первой части я познакомлю вас с идеей внутренней колонизации и расскажу с помощью очень простых схем и определений, что это значит. Во второй части я свяжу эти исторические размышления с политическим и политэкономическим анализом современных российских проблем, как я их вижу. Речь, действительно, идет о междисциплинарном исследовании. Но я бы хотел также познакомить вас с концепцией критической теории, потому что это очень важная и совсем не новая идея. Когда мы говорим о политической науке, о философии, о социологии, об исследованиях современной культуры, все это применительно к современным обществам оказывается связано воедино. Оно перетекает одно в другое, и смысл рассуждений разных академических ученых состоит в том, чтобы предоставлять обществу, публике, государству критику современного состояния дел.
Эта идея критической теории как долга или обязанности интеллектуала, особой области, куда сходятся разные идеи, методы, теории, была высказана немецкими эмигрантами в послевоенной Америке. В основном, это были философы, но также социологи. И, в основном, это были марксисты, хотя они искали новые творческие пути марксизма. На какое-то время они приобрели значительное влияние в 60-е годы, особенно во время незаконченных революций 68-го года. Эти деятели критической теории, такие как Адорно, Маркузе и несколько других имен, были очень влиятельны. Мы и сейчас с вами живем не в лучшем из миров, и кто в конце XX века праздновал конец истории, сейчас пишет о ее возвращении. Но одновременно возвращается интерес к критической теории. Такой теории, которая помогла бы понять мир, если уж не удалось его переделать.
***************************************************************************************
Цитаты
- …отличие сословного общества Российской империи в том, что там эти сословия были прописаны в законе, который учили в школе. А в современной России сословное общество антиконституционно и нелегально.
- Социальные неравенства наследуются везде, но, скажем, в Англии, когда человек умирает, половина его имущества уходит в налоги. Это механизм выравнивания: государство эти деньги перераспределяет, а наследник получает только половину, и если он не умножает полученное своим трудом или удачей, семья непременно беднеет.
- Определенные институты, которые держались очень долгое время, как империя Романовых или Компартия СССР, загоняли страну в тупик, власть сменялась катастрофически.
**********************************************************************************************
КНИГИ
Природа Зла. Сырье и государство
priroda_zla_syre_i_gosudarstvo
Эрос невозможного: история психоанализа в России.
Эткинд А. — Эрос невозможного. История психоанализа в России
***************************************************************************************
АЛЕКСАНДР ЭТКИНД: «Эта спецоперация против современности»
****************************************************************************************
«Ему стало скучно». Александр Эткинд о том, как Путин запустил механизм самоуничтожения
********************************************************************
Кульминация близка.
********************************************************************************************************
Апдейт от Н.А.Шлемовой, 27.12.2023
«Россия против современности». Александр Эткинд о культуре и войне

Игорь Померанцев: Профессор Эткинд, у вас богатая сфера научной деятельности, среди ваших тем интеллектуальная история и история культуры. Наш подкаст называется «Зарубежье». Вот эти темы имеют какое-то отношение, как-то соприкасаются с зарубежьем?
Александр Эткинд: Конечно, соприкасаются. Я занимаюсь русской интеллектуальной историей, и она вся, мягко говоря, соприкасается с зарубежьем. Но я занимаюсь не только русской историей. Мои герои постоянно мигрировали, мои герои обычно беженцы, эмигранты. Они уезжали из России в Европу, в Америку, некоторые из них возвращались. Это иногда кончалось трагически, иногда, наоборот, триумфально. Русская интеллектуальная история – это история отъездов и возвращений.
Иван Толстой: Александр Маркович, отъезд вашего дяди Ефима Григорьевича Эткинда, знаменитого литературоведа и переводчика, сказался как-то на вашей судьбе, на вашем положении в обществе? Я имею в виду не только на вашем собственном, вы еще были достаточно молоды, но в целом на судьбе его брата и на судьбе семьи?
Социальное падение и отъезд Ефима Эткинда прямо сказался на жизни его братьев
Александр Эткинд: Это тяжелый вопрос. Я был юношей, когда это происходило, но на судьбе семьи все это сказалось трагически. До отъезда Ефима, после увольнения Ефима, когда КГБ завел на него дело, когда со скандалом уволили с работы, лишили степеней, членства в так называемых творческих союзах, короче говоря, сразу после этого умер его брат Исаак Григорьевич, который занимал какие-то позиции в советской иерархии. От стресса, тревоги, переживаний, от инфаркта он скончался прямо сразу. Ефим еще был на его похоронах.
Он оставил тоже мать-старуху Полину, больше ее никогда не видел, и оставил своего младшего брата, моего отца Марка, который работал в том Герценовском институте, где работал и Ефим. Марка сразу после этого уволили. Он всерьез это воспринял, пытался восстановиться на работе. Я помню, как я его сопровождал в хождениях в какие-то советские офисы, где все было серое и отвратительно пахло, я его ждал в приемных, и так далее. Два года он пытался восстановить свой социальный статус и тоже умер. Социальное падение и отъезд Ефима прямо сказись на жизни его братьев.
Иван Толстой: Какие разговоры вы помните в семье в связи с этим поступком Ефима Григорьевича, вынужденным поступком, совершенно им нежеланным? Известно его открытое письмо зятю, насколько я помню, с призывом не уезжать и оставаться в стране и делать свое дело. Он был вынужден уехать. Вы сказали о такой трагической судьбе семьи после этого. А разговоры — какие были об этом, как мораль этой истории подавалась среди своих, если можно вам такой вопрос задать?
Александр Эткинд: Морали у этой истории не было. Были люди, которые резко осуждали Ефима за все, за то, что он позволял себе антивоенные высказывания, встречался когда-то с Солженицыным. Но на тот момент, по-моему, они уже стали врагами с Солженицыным. Были такие люди, мне они никогда не нравились, которые резко осуждали отъезд. Были люди, которые разводили руками, потому что — а что делать?
Ефиму Эткинду запретили даже работать шофером в такси
Ефиму даже, как он потом писал, запретили работать шофером в такси. Он профессор, мировая величина, пошел в обком партии или куда-то и сказал: «Ну хоть в такси мне (он хорошо водил машину) разрешите работать?». Они говорят: «Нет». Об этом он писал довольно подробно, я думаю, все это можно найти в интернете. Были, естественно, люди, которые всячески его одобряли, следовали за ним. Я еще раз повторяю, я был юношей, все это воспринимал отчасти глазами отца, который реально не хотел уезжать, боялся, что я уеду. Действительно, я не уезжал, уехал гораздо позже, может быть десятилетиями позже. Так что единой морали не было.
Игорь Померанцев: Насколько я знаю, у вас несколько ученых степеней, вы кандидат психологических наук, вы доктор философии. Вот эти сферы – психология и философия – как-то пересекаются, у них есть точки соприкосновения?
Александр Эткинд: У них, конечно, есть точки соприкосновения, их очень много. Доктор философии, такая степень, вы знаете, что на Западе (я защищал эту диссертацию в Финляндии) доктором философии может быть и физик, и биолог, и филолог, и историк. Моя диссертация была по русской культурной истории, интеллектуальной истории, она была опубликована как книга «Хлыст. Секты, литература и революция». Тогда университет Хельсинки требовал опубликовать диссертацию перед защитой, оно и получилось очень удачно в 1998 году, давно дело было. Если вы говорите об истории филологии с одной стороны, психологии и философии с другой стороны, да, все это огромные, пересекающиеся между собой моря и континенты.
Иван Толстой: Александр Маркович, ваше зарубежье, если я правильно понимаю, началось уже в политически совершенно иные времена, чем у вашего дяди, уже не было Советского Союза, когда вы уехали. Ваша мотивация отправиться в иные края – какая была?
Александр Эткинд: Я первый раз, наверное, был за границей как раз по приглашению Ефима, я был в Париже – это было сильное впечатление, это был 1988–89 год, Советский Союз еще был. Да, я возвращался, уезжал, получил стажировку в Париже на год, задержался там на еще какое-то время. Мне помогали разные люди очень щедро во всем этом. Мотивация моя была – поиск, поиск лучшей жизни. Стипендии, конечно, были несоизмеримо больше, чем я мог зарабатывать дома.
Я был в конфликте с моим начальством на моем прежнем месте работы, это был очень удачный способ выйти из этого конфликта в конце 80-х годов. После этого я путешествовал все 90-е годы с одной стажировки на другую, между Европой и Америкой. Потом я вернулся в Петербург, потому что я принимал участие в создании Европейского университета в Петербурге, преподавал там лет шесть или семь с большим удовольствием, пока не выиграл по конкурсу новую работу в Кембридже. И это было такое предложение, от которого трудно было отказаться, я уехал в Кембридж в 2004 году.
Игорь Померанцев: Вас среди прочего называют американским и британским культурологом. Чем американский и британский культуролог в современном мире отличается от немецкого, французского, российского?
Александр Эткинд: Американским культурологом я, в общем-то, не был, то есть я был американским приглашенным исследователем, стажером. Это такой большой миф, против которого я, в общем-то, не возражаю. В Америке я толком никогда не работал, хотя провел там много лет в общей сложности. «Культурология» – есть только по-русски это слово, по-английски, по-французски и так далее это называется иначе: культурной историей или культуральными исследованиями. Я пытался ввести такой термин в русский язык «культуральные исследования», но не очень это получилось. Но чем-то отличается: культурология склонна к большим системным построениям, русская культурология, культура истории имеет гораздо более узкие и фактические интересы.

«Национальный характер меняется». Ученый о британском прогрессизме
Иван Толстой: Интересно: между собой британская и американская позиция исследовательская сильно отличается? Есть такое обывательское мнение, что американские ученые склонны к хеппи-энду в результате, а британские более въедливые, более психологичные, чуть-чуть более жестокие. Есть такие читатели, профессиональные читатели, которые больше доверяют британским, скажем, историкам. Какую-то коррекцию вы можете внести в это деление?
Александр Эткинд: Я не очень верю в этнические стереотипы, может быть, с этим связан один из секретов того, что я успешно работаю в разных областях, с разными странами. Многие прямо на моих глазах британские исследователи создали себе хеппи-энд, переехав в Америку, получив там профессорский контракт, работая до смерти, до физического конца исследователя. В этом смысле можно сказать, что это более хеппи-энд, чем британские профессиональные контракты, которые кончаются с пенсионным возрастом, многие британцы после этого продолжают писать книги, но как бы уже на общественных началах, живут на пенсии. Я не думаю, что есть какая-то психологическая или интеллектуальная разница между этими традициями сегодня.
Игорь Померанцев: Вы знаете, в Великобритании довольно скептично относятся, например, к французским философам. Такое издание, как Times Literary Supplement, регулярно напоминает: «Как известно, мы не понимаем немецкой философии». Я все-таки возвращаюсь к вопросу: почему британцы с подозрением относятся к французским философам, не говоря уже о немецких?
Александр Эткинд: Это правда, что британцы их не очень любят. Есть континентальная философия, как они называют, это философия французская или немецкая, австрийская, есть англосаксонская или аналитическая философия, которую действительно не понимают европейцы. Философия – такое исключение, где эти различия реально работают.
В библиотеке философского факультета Кембриджа я не мог найти книжку Ханны Арендт
Я помню, как в философской библиотеке Кембриджа, в библиотеке философского факультета Кембриджа я не мог найти книжку Ханны Арендт, просто там Ханны Арендт не было, там было все заставлено Витгенштейном и работами о Витгенштейне. Да, есть такие различия в философии. Например, в истории их нет. В Кембридже я присутствовал при довольно смешном обсуждении идеи: было предложение дать Жаку Деррида почетную степень доктора философии Кембриджского университета. И это предложение было отвергнуто под этим знаменем, что мы в Англии не понимаем французской философии, французской теории. Притом что в Америке французская теория была какое-то время чрезвычайно популярна, тот же Деррида или Фуко. Зарабатывали деньги, преподавая в американских университетах год-два.
Иван Толстой: Когда вас приглашает какой-то университет, ставит ли он перед вами определенную интеллектуальную задачу? Есть ли вообще какие-то философские программы, которые могут быть навязаны ученому? Есть ли они у самих институций или вы совершенно вольная птичка?
Реальные решения принимаются исключительно на основе прошлого
Александр Эткинд: Нет, это так не работает. Во-первых, мало кто кого сейчас приглашает – это когда-то было в прежних поколениях, сейчас все вынуждены подавать на конкурс, участвовать в этом конкурсе на равных началах. В этих конкурсах играют роль только те условные достижения, которые уже на момент конкурса достигнуты: публикации, где преподавал, что делал. Прежде всего публикации, потому что только это можно прочесть и как-то понять, оценить и обсудить. На основе этих публикаций приемная комиссия или конкурсная комиссия делает какие-то прогнозы о том, всегда задает вопрос: каковы ваши творческие планы, куда вы движетесь? Если человек с трудом отвечает на этот вопрос – это, конечно, недостаток. Реальные решения принимаются исключительно на основе прошлого, а не на основе неких философских планов.
Игорь Померанцев: Александр, вы в свое время исследовали такие явления, как неврозы и аффективные расстройства. У этих явлений есть какие-то национальные особенности?
Александр Эткинд: Во-первых, я исследовал эти явления бесконечно давно, для меня это почти как другая жизнь. Во-вторых, я исследовал эти явления исключительно в России, точнее сказать, в Ленинграде. Я думаю, что есть не эмоциональные особенности, а исторические периоды, когда такого рода психологические явления становятся более одинаковыми в травмированных, переживающих быструю историческую трансформацию культурах. Разные люди, которые в более спокойные времена болеют многими разными болезнями, в эти кризисные периоды начинают болеть одинаковыми болезнями, рассказывать о своих болезнях одинаковыми словами. После этого это обычно возвращается в виде теории травмы или подобных теорий. Это я как интеллектуальный историк исследовал, можно сказать, даже наблюдал. Я думаю, что мы, русскоязычные люди, сейчас как раз находимся внутри еще одного такого периода.
Иван Толстой: Ваша университетская и профессиональная карьера, в каком направлении она вообще развивалась и развивается? Это путь вверх или путь куда-то вбок, шахматным конем как-то вы ходите? В стольких странах вы были, если почитать вашу биографию, столько университетов подмяли под себя, покорили и очаровали? Каждый следующий университет был выше каким-то уровнем, то есть в этой Ivy league, условно говоря, были университеты более «айви»? Как это вообще происходит на Западе?
Александр Эткинд: Спасибо, что вы так на меня смотрите оптимистически, предсказывая хеппи-энд, но изнутри это не так видится. Только в Кембридже у меня был постоянный контракт, полная профессура до пенсии. Но меня там многое не устраивало, мне стало скучно. Я вообще работаю обычно 8 лет на одном месте, потом мне начинает не сидеться на этом месте. После Кембриджа я ушел, действительно это был, с моей точки зрения, шаг вверх, в Европейский университетский институт – такое у него странное название, который находится во Флоренции. Но это единственное такого рода учебное заведение Европейского союза. Да, для меня это был, я так это переживал, как шаг наверх.
Хотя, конечно, Кембриджский университет имеет гораздо более высокий статус, но и зарплата моя была гораздо выше во Флоренции, жить в Италии было интереснее, студенты были гораздо лучше и так далее. Но это был временный контракт на 8 лет, я там проработал по факту 9 лет, мне пришлось двигаться дальше. Сейчас я переехал в Вену, в Центральноевропейский университет, который тоже очень интересное место, мне нравится, там у меня тоже многое получается. Но в любом случае это все не так складно и не так красиво выходит, как вы рассказали.
Игорь Померанцев: Вы возглавляли европейский проект «Память о войне». Причем там была своя специфика: проект этот занимался культурной динамикой в Польше, в России и в Украине. Можно чуть подробнее об Украине?
Александр Эткинд: Да, это был такой впередсмотрящий проект, я бы сказал. Потому что мы начали его в 2010 году и закончили его в 2013 году. Он назывался не «Память о войне», он назывался «Войны памяти». Культурная память в разных странах, в разных политических ситуациях входит в столкновения, которые похожи на войну, так примерно мы начали это описывать. Я когда-то писал этот проект, я ввел это понятие «войны памяти» в оборот. Конечно, и в дурном сне не мог себе предположить, какой характер эти войны памяти примут очень скоро, уже в 2014 году войны памяти приняли характер вооруженного столкновения с применением разных видов оружия. Как мы помним, когда Россия начинала новый этап войны полтора года назад, то тоже всякие исторические или псевдоисторические соображения играли главную роль, этим все оправдывалось, этим все диктовалось, все объяснялось антагонизмом исторической памяти между Россией и Украиной и, конечно, Западом тоже.
Иван Толстой: Александр Маркович, Гоголь, Тургенев так любили из зарубежья писать о России, и она у них получалась то демоничней, чем на самом деле, то, наоборот, привлекательнее, скорее одновременно и то, и другое было, особенно у Гоголя это очень чувствуется в его римских записках о родине. А что у вас, как трансформировались ваши взгляды на Россию из зарубежья за эти десятилетия?
Я подвергся новым интеллектуальным влияниям и в Кембридже, и потом во Флоренции
Александр Эткинд: Я подвергся новым интеллектуальным влияниям и в Кембридже, и потом во Флоренции, где вокруг меня работали очень разные люди, они стали моими близкими коллегами и друзьями, кто-то из Австралии, кто-то из Польши, из Италии, из Канады. В современной истории важен сравнительный подход, глобальная перспектива. Не очень-то поощряется исследование одной национальной культуры или истории, которое обычно делается изнутри этой истории. Когда во Флоренции, да в любом университете, принимают людей на аспирантские стипендии, просят предоставить свои исследовательские проекты, как правило, это исследования самих себя. То есть австралийцы рассказывают или хотят исследовать какой-нибудь геноцид аборигенов в Австралии, а украинцы пишут об Украине и так далее. На это профессора отвечают, что да, конечно, мы понимаем, что это так обычно происходит, но это не модно, это устарело, мы поощряем другого рода исследования: давайте мы будем сравнивать или давайте мы будем поощрять, условно говоря, французов, которые пишут о Германии или об Италии.
Конечно, на меня это повлияло разными способами. Та книга, которую я написал (я во Флоренции написал две книжки), была биографией американского посла в России Уильяма Буллита, он был таким русофилом своего рода, потом стал антисоветчиком. Он был первым американским послом в Москве, потом был американским послом во Франции, замечательная, интересная фигура. Мне интересна была судьба человека, который пересекал границы, вершил судьбы или выражал еще большие амбиции в разных странах от лица какой-то третьей страны.
Следующая моя книга, которую я написал во Флоренции тоже, называлась «Природа зла», культурная история природных ресурсов, сейчас она вышла третьим изданием в России. Она вышла по-английски, переводят ее сейчас на разные языки, на корейский, например, и она совсем глобальная – это глобальная история. Хотя все равно Россия там занимает большее место, чем, например, Чехия или Польша, все равно Россия занимает непропорционально большое место.
Игорь Померанцев: У вас есть такое исследование, оно называется «Содом и Психея. Очерки интеллектуальной истории Серебряного века». Почему Содом и Психея? Серебряный век, по-вашему, насколько это русское явление, насколько европейское?

Художник Виталий Комар: «Я себя чувствую диптихом всю жизнь»
Александр Эткинд: Серебряный век, конечно, русское явление, как он формировался, потом, когда его назвали так наследники Серебряного века, это всегда принималось как русское явление, но на него оказывали влияние всякие европейские явления, достижения. Серебряный век оказывал свое влияние на Европу.
Почему Содом и Психея? Тогда, когда я писал ее, это тоже были незапамятные времена. В 90-е годы было модно играть словами, мне и сейчас нравится это занятие, Содом и Гоморра с одной стороны, Амур и Психея с другой стороны, получилось такое. Я не знаю, это расшифровывается? Книжка была довольно успешной, но эта книжка была промежуточной для меня между «Эросом невозможного» (это была моя первая книга, она была переведена на 10 языков, только что вышла новым изданием по-русски, и в итальянском переводе она вышла). То есть 30 лет прошло, она вышла в 1993 году первый раз, я очень горжусь тем, что 30 лет прошло, а люди продолжают ее читать, еще и на разных языках. Потом я стал заниматься какими-то другими вещами.
В 2001 году вышла моя книжка про русско-американские путешествия, травелоги, тексты стран и культур друг о друге, называлась «Толкование путешествий». Еще была книга «Хлыст». «Содом и Психея» была между «Эросом невозможного» и «Хлыстом», которая была моей докторской диссертацией. В книжке «Содом и Психея» виден переход от одной огромной темы к другой еще большей теме.
Игорь Померанцев: Я все-таки хочу уточнить, вернуться: насколько Серебряный век европейское явление? Все-таки родина символизма – это Франция, родина футуризма – это Италия. Вы говорите, что Россия тоже повлияла на европейскую культуру. Кто на кого и в какой степени?
Александр Эткинд: Родина символизма действительно Франция, но символизм был и в Скандинавии, и в Германии, и так далее. Какие-то вещи назывались другими именами, но эти умонастроения действительно циркулировали по всему континенту, и Россия в этом принимала участие, интерпретируя это в соответствии с местными культурными традициями и политическими процессами, ожиданиями войн и революций, все это меняло местный контекст, потом как-то это возвращалось в Европу. Я не вижу здесь ничего особенного в этом деле.
Россия, может быть, особенна в том смысле, что уже дальше на Восток для символизма, например, дороги не было. С другой стороны, у русских людей тогда было много возможностей для путешествий или учебы за границей, потом для эмиграции. В этих путешествиях, чем бы они ни были вызваны, русские поэты, или художники, или философы оказывали свое обратное влияние на Францию, или Германию, или Чехию, Болгарию, где бы они ни работали. Это видно на очень больших именах: Владимир Соловьев, например, был какое-то время популярен в Германии, Бердяев прямо преподавал по-французски, и так далее.
Иван Толстой: Мне все время кажется, что ваше творчество имеет два таких определенных полюса, которые можно было бы назвать двумя частями той же шутки, «Амур и Гоморра». Можно ли ждать наконец такую книгу от вас или можно ли ее заказать вам? По-моему, это было бы увлекательнейшее чтение.
Александр Эткинд: «Амур и Гоморра» – это классное название. Если вы мне закажете ее, я подумаю, о чем бы была эта книга. На самом деле мы не очень знаем, чем отличались между собой, например, Содом и Гоморра, эти два города, которые подверглись этому страшному наказанию божьему. Особенно часто сейчас люди возвращаются к жене Лота, которая остолбенела, покидая Содом. К самому Лоту мы возвращаемся сегодня меньше, но все-таки он спас человечество, войдя в инцест со своими двумя дочерями. Почему их было две, этих дочери, ведь можно было обойтись и одной? Почему этих городов было два? Я понимаю, почему вас интересует Амур, но чем вас интересует Гоморра? Если вы себе начнете заказывать такую книгу, то нам придется это обсуждать.
Иван Толстой: Я согласен. Как издатель я вам ее заказываю, считайте, что это официальный заказ.
Игорь Померанцев: Александр, вы называете имперский опыт России внутренней колонизацией. Что вы имеете в виду? Не попытка ли это реабилитировать население России?
Александр Эткинд: Есть такие люди сегодня как раз, появились такие люди, которые так читают мою книгу. Но книга была опубликована по-английски первый раз в 2011 году, по-русски ее читают в русском переводе. Да, действительно, она попала в контекст нового покорения Крыма. Она была написана совсем не для этого, потому что я этого не предвидел, очень мало кто предвидел то, что происходит сейчас, или даже то, что произошло в 2014 году. Внутренняя колонизация, мне кажется, – это очень важное понятие, особенно важное для таких больших стран, территориально больших стран, как Российская империя, Австро-Венгерская империя, Оттоманская империя, Китайская империя.
Было два типа империй – заморские империи или трансокеанические империи, как Британская или Французская империи, которые завоевывали колонии за океаном. В этих заокеанских колониях все было иначе: цвет кожи у людей был другой, религия была другая, климат, растения другие росли, какие-нибудь минералы и так далее. Вот колонисты туда приезжали в пробковых шлемах, они тоже выглядели совершенно иначе, чем местное население.
А в больших территориальных или сухопутных образованиях, сухопутных империях не было такой явной границы между имперским центром и колониями. Эти колонии вырастали постепенно, казаки, или солдаты, или купцы двигались на Восток в неизвестные какие-то леса или болота, так они покорили Сибирь, потом они переместились на Аляску, стали покорять по суше Американский континент.
В своем движении на Запад Российская империя встретила сопротивление, остановилась
В своем движении на Запад Российская империя встретила, мягко говоря, сопротивление и остановилась, но в других направлениях она двигалась очень долго и далеко, пока не встретила сопротивления на китайской границе, американских границах. И вот по мере этого гигантского движения образовались огромные пустоты внутри этой страны, новой страны, – не то что пустоты в смысле, что там никто не жил, там всегда кто-то жил, там были местные обычаи, местные ресурсы, которые надо было открывать, покорять и исследовать. Главное – пространство это подлежало освоению. Для этого были выработаны, постепенно исторически появились свои умения, навыки общения с местными племенами. Это общение имело разный характер – подкуп, геноцид, взятие заложников и так далее.
При этом была торговля, конечно, как и в случаях внешней колонизации, где-нибудь в Канаде или в Африке, торговля с местными племенами на выгодных для белого человека, для пришельца условиях. Так что главная тема моей книги, что внутренняя колонизация, освоение внутренних пустот внутри российского пространства не так уж сильно отличалась от внешней колонизации, что все способы, методы, навыки, к которым пришла Российская империя внутри себя, не могли быть сильно отличны от методов внешней колонизации, какие использовали Британская империя или Германская империя за морями.
Игорь Померанцев: Александр, ваши коллеги, ваши студенты спрашивают вас об интервенции России в Украине?
Александр Эткинд: Конечно, спрашивают, я и сам себя спрашиваю. Последние полтора года только и думаю и пишу об этом на самом деле. Я написал книжку, которая вышла по-английски, я ее начал писать буквально в феврале прошлого года, когда началась война, я оставил другие занятия, стал писать эту книжку, она вышла довольно скоро, одна из первых книжек, которые вышли про эту войну. Она называется «Россия против современности». Она вышла по-английски, сейчас мои друзья и коллеги в Риге переводят ее на русский и на латышский языки, она выйдет в Риге двумя изданиями – по-русски и по-латышски, что меня, конечно, радует.
Но точно так же меня огорчает то, что другие мои друзья и коллеги в России сказали, что, нет, они в Москве не смогут перевести и издать эту книгу, потому что это стало невозможным. Раньше то, что я писал, всегда было возможным публиковать в России. Так именно как автор я почувствовал изменение времени. «Россия против современности» – это моя попытка объяснить нынешние события, исходя из тех больших теоретических представлений, которые я раньше излагал в других своих книгах.
Иван Толстой: Вы тем самым ответили на мой, по-видимому, последний вопрос, который я хотел задать: каковы ваши творческие планы? Я думаю, что последняя капля, о которой вы упомянули, это и были ваши творческие планы. А более академические какие-то направления и интересы, чуть-чуть край рогожи приподнимете?
Александр Эткинд: Да, я очень озабочен климатической катастрофой и судьбой мира в этот переломный период, то, как петрогосударства (то есть страны, которые полностью зависят от своего ископаемого топлива, которое они экспортируют, это составляет источник их существования), как петрогосударства реагируют на декарбонизацию, которая забирает у них главный источник существования. Как у нас с вами вдруг забрали бы зарплату или накопления, мы бы тоже стали жаловаться или протестовать, а кто-то бы прибегнул к насилию. И вот примерно так я понимаю нынешний момент. Поскольку я сейчас преподаю на факультете международных отношений, то, да, это становится моим главным занятием, научным интересом. Я читаю курсы такие, как «Политика антропоцена». Я создаю в Центральноевропейском университете научный центр, который так и будет называться «Политика антропоцена», мы будем в течение трех следующих лет исследовать то, что будет происходить в этом ключе.
Игорь Померанцев: Александр, большое спасибо! И спасибо за новое слово «антропоцен».
Иван Толстой: Спасибо, Александр, удачи! И надеюсь, поскольку вы теперь сосед относительно Праги, мы будем видеть вас чаще.
Александр Эткинд: С большим удовольствием! Спасибо вам!
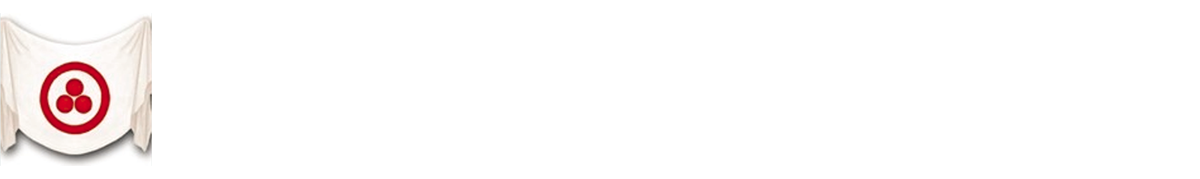










https://d2z6tww61haw6l.cloudfront.net/a/neft-proklyatie-rossii-iran-putin-ivan-grozny-aleksandr-etkind/32630679.html
«Нефть – проклятие России». Станет ли страна Ираном и почему Путин хуже Ивана Грозного – историк Александр Эткинд
//https://d2z6tww61haw6l.cloudfront.net — Радио Свобода
Историк Александр Эткинд о том, как Россия ведет войну с современностью
Александр Эткинд — историк, филолог, профессор Центрально-Европейского Университета в Вене. До этого он много лет преподавал в Кембридже. Его книги о проблемах колонизации, интеллектуальной истории, культурной памяти переведены на многие языки и помогают западным интеллектуалам понимать Россию. В своей новой книге «Россия против современности» Эткинд представляет вторжение в Украину как часть большой войны российского государства против прогресса — экологических, социальных, культурных вызовов XXI века. Максим Заговора поговорил с Эткиндом о том, что это за война и когда она закончится.
— «Россия против современности» — объясните суть этого противостояния.
— Это новое противостояние. Конечно, у России были проблемы с современностью и в XVIII, и в XIX веках, но сейчас сама современность стала новой. Это прямой результат климатического кризиса, а теперь к нему прибавился COVID и другие природные угрозы. Новая современность является прямым ответом на противостояние общества и природы. В прежние века природа казалась бесконечной — ее можно было осваивать и покорять, но сейчас мы уперлись в тупик.
Почему Россия противостоит этой современности? Да просто потому, что она полностью зависит от экспорта своего карбонового сырья, которое точно называют ископаемым топливом. Любые программы энергетического перехода лишают Российскую Федерацию привычных источников дохода. Вот в этом — суть этого противостояния, все остальное — его разнообразные следствия.
— Вы пишете, что прежний мир — это «мир Левиафана», а нынешний — это «мир Геи». Гипотеза Геи — интересная теория, согласно которой все живые существа на Земле образуют огромный суперорганизм, который поддерживает существование планеты. Вы верите в эту идею?
— Да, я верю в нее и преподаю ее уже несколько лет. В нынешнем виде эта идея была сформулирована великим недавно скончавшимся философом Бруно Латуром. Конечно, отчасти она имеет метафорический характер, но отчасти — буквальный. И эта буквальность растет по мере того, как мы движемся к лобовому столкновению с природой. Природа-Гея оживает и начинает сопротивляться, наносить встречные удары по мере того, как мы приближаемся к ее пределам — планетарным пределам экономического роста.
— Вы перечисляете через запятую экологические, медицинские, социальные, гендерные, культурные вызовы — и связываете их с нынешней войной. Объясните эту связь.
— Есть такая популярная — я бы даже сказал, господствующая — теория мультикризиса, ее сформулировал экономический историк и публичный интеллектуал Адам Туз. Он рисует большие многоугольники, которые демонстрируют соединение и столкновение разных кризисов и превращение их в один большой.
Предполагается, что среди этих кризисов нет первичного, вторичного, третичного и так далее — они все равноправны, развиваются одновременно и усиливают друг друга, как в порочном круге. В этом смысле война — еще одна сторона этого сложного многоугольника.
Я со многим из этого согласен, но мне кажется, что этот многоугольник на чем-то должен стоять, что-то является его основанием, а что-то вторичное следует из первичного. Чтобы понять, что с мультикризисом делать и откуда начинать, надо понять, на чем он стоит. Выстроить иерархию проблем, понять, какой кризис — главный и как он порождает остальные. Я считаю, что главный — климатический кризис, из него следует декарбонизация, новые формы неравенства и многое другое.
— Объясните, как климатический кризис привел к войне. Когда Путин объявлял о вторжении, он о климате ничего не говорил.
— Путин не говорил, а я говорю. Об этом, собственно, моя книга. Российская Федерация росла, пухла и жирела на 100% благодаря экспорту ископаемого топлива. Это единственное, что давало прибыль, которая потом перераспределялась в другие индустрии. Из этой прибыли финансировалась и военная программа, объем и качество которой мы теперь понимаем лучше, чем раньше.
Но значительная часть этой прибыли доставалась так называемой «элите» (я всегда ставлю это слово в кавычки) — нескольким тысячам семей верховных администраторов, менеджеров, распределителей национального богатства, которые использовали сверхприбыли для покупки самых длинных в мире яхт, самых больших дворцов, самых безвкусных предметов роскоши и так далее, делая это и в России, и за границей. Довоенная Россия — одна из ведущих стран в мире как по социальному неравенству, так и по бегству капиталов.
Все программы декарбонизации, энергетического перехода, трансграничный карбоновый налог, который должен быть введен уже в 2026 году, — все это лишало Россию прибыли. К 2030 году Россия должна была лишиться минимум половины своих [нефтегазовых] доходов, а к 2050-му — вообще всех.
Адекватным ответом на это была бы диверсификация экономики, сосредоточение на человеческом капитале, образовании — чтобы люди зарабатывали больше денег для себя и своей страны, — но вместо всего этого в качестве превентивного удара началась война. Такова логика моей книги.
— По-вашему, Путин рассуждал именно так?
— Я довольно подробно в этом разбираюсь — действительно ли был такой, расписанный план? Ведь сначала российская власть просто не верила международным экологическим программам; говоря по-русски, ушла в отрицалово. Потом появились идеи, что на этом что-то можно заработать (и, кстати, действительно можно было, потому что торговля эмиссиями работает, хотя и не для России). Все это активно обсуждалось и в администрации президента, и в правительстве, но требовало больших дипломатических и политических усилий.
В итоге был выбран другой путь. Был ли он продуманным планом, спонтанным решением или цепочкой решений? У меня в книге, если помните, есть глава «Вкус вместо плана» — о том, как вкусовые предпочтения политиков влияют на их решения, придавая им видимость последовательности. В ней я описываю, как такие «вкусовые предпочтения», как гомофобия или предпочтение большого малому, выполняют функцию политического планирования. То есть одно вкусовое решение ведет за собой другое, другое — третье, и так далее (в теории вероятности это называется «марковские цепи»), но выбор пути на каждой из этих развилок обусловлен одним и тем же вкусом правящей клики.
В общем, я вижу это примерно так: я не считаю, что это был план, но думаю, что это была осознанная цепь решений, которая развивалась в течение десятилетий.
— В песне Виктора Цоя про современность есть такие строчки: «Ты не понимаешь ничего и ничего не хочешь менять» — вы описываете примерно такую логику российской власти?
— Скорее вторую часть этой фразы. Есть такая точка зрения, отчасти достоверная, что низкие цены на нефть в конце 1980-х годов привели к распаду Советского Союза — на этом опыте училась вся нынешняя российская «элита». Теперь дело не в ценах: цены будут только расти, — а в налогах, пошлинах, ограничениях, эмбарго, в потолке цен на энергоресурсы. Прежняя лафа уже не будет продолжаться, привычная жизнь за счет этой лафы становится невозможной, и привычный пользователь лафы это понял. Это понимание привело его к отчаянным решениям, направленным на срыв этих изменений.
Ближайшая историческая аналогия — это «опиумные войны», которые в XIX веке вела Британская империя против Китая. Империя продавала Китаю индийский опиум в огромных количествах, прибыль шла в Лондон. В какой-то момент китайская власть решила остановить эту торговлю, считая, что это ведет к деградации населения, примерно так же, как сегодня европейские покупатели стали отказываться от нефти. И вот в обоих случаях продавец начинает войну, цель которой не захват, а навязывание покупателям прежних торговых отношений.
— Главная национальная идея — «жить как прежде»?
— Не просто «жить как прежде», а «жить так же богато, как прежде». Российская «элита» привыкла жить очень богато, богаче всех на свете — она считает это унаследованным правом, правом, данным самим богом: мы настаиваем на этом праве, мы избранный народ, а они пытаются нас этого права лишить. Мы с ними готовы были поторговаться, хотели по-доброму. Но Путин решил: не хотите по-хорошему — будем по-плохому. И начали по-плохому.
Это, конечно, одно из объяснений войны с Украиной. Война — событие огромного значения. У таких исторических событий всегда много объяснений, которые тоже соединяются вместе в одну логику, а дальше действует логика войны. В своей книге я описываю эту логику, дохожу и до геноцида, и до возможного окончания этой войны — то есть военного поражения Российской Федерации, которое она не сможет пережить. Думаю, и мировое сообщество не будет терпеть российские странности и излишества, как оно терпело их до войны. Думаю, что это последняя русская война: она приведет к распаду Российской Федерации.
— Вы говорите об огромном значении войны с Украиной, но при этом пишете в книге, что она лишь часть большой «антропоцен-войны», той самой войны человека с природой. Не принижает ли эта мысль значение и ужас российского вторжения?
— Возможно, украинцы могут понять это так, что я принижаю значение именно их войны. Они сейчас действительно верят в то, что не только путинская клика, но и весь российский народ особым образом ненавидит украинцев. Они верят в этническую ненависть россиян.
Я в это не верю. Я считаю, что это национальная мифология, характерная для военного времени, но не соответствующая историческим и политическим реалиям. И может быть, эта этническая мифология вредна для практической политики Украины. Я думаю, что Украине было бы лучше сосредоточиться на российской власти и ее свержении, на понимании того, что, когда режим закончится, тогда закончится и война. Тогда появится возможность для новых политических реалий на всем евразийском континенте и в большом мире. А благодарить мы все будем Украину. Этими словами заканчивается и моя книга.
— Но, справедливости ради, и ваша книга называется не «Путин против современности», а «Россия против современности».
— Ну да. Но нынешнюю войну я называю путинской, а не российской. Россия — это государство, но Россия — это и страна. Я не обвиняю российский народ, хотя в этом контексте, может быть, это было бы справедливо. Но я думаю, что не бывает плохих учеников — бывают плохие учителя. Народ надо просвещать, просто учить, начиная с детского сада и заканчивая университетами, чтобы он по-другому относился к природе, к мусору, к топливу, к электричеству, к людям, к миру.
Другие народы эти новые способы поведения — такие, как, например, сортировка мусора — приняли с большей охотой. Да, это в том числе вопрос инфраструктуры — какие баки стоят во дворе, — но прежде всего это вопрос образования. Не бывает плохих или хороших народов, бывает хорошее и плохое образование. Я как человек, который всю жизнь работает в сфере образования, понимаю это очень ясно.
— Вы пишете, что современные государство и народ связывает доверие. Вы не считаете, что российский народ вполне доверяет своему государству? Даже соцопросы, при всей их уязвимости сейчас, фиксируют очень высокий индекс доверия россиян и к Путину, и к армии.
— Доверие — это капитальный вопрос социальных наук. Оно не измеряется социологическими опросами ни в какой стране, а тем более в тоталитарной. Сейчас в России социология должна молчать, потому что она такая же служанка режима, как армия, как пресса, как суд. Всему этому нельзя доверять.
А доверие надо измерять, допустим, по базовой ставке кредита. Вот вы берете деньги в долг у друга: если вы друг другу доверяете, ставка по этому долгу будет нулевой. А в России займы выдаются под очень высокий процент — вот это и есть показатель доверия.
Ну и, как написал знаменитый немецкий социолог Никлас Луман: «Если в вашей стране нет доверия, вам не хочется просыпаться по утрам». Думаю, что многие в России сейчас это испытывают.
— Еще одна идея, которую вы описываете в своей книге, — это идея «нормальности» для России. Вы называете ее ключевой после распада СССР. Идея провалилась?
— Идея «нормальности» была доминирующей идеей определенного круга западных советологов, кремленологов и экспертов по России. Я очень критично отношусь к этой идее, но это было масштабное предприятие, которое, как я пишу, было похоже на интеллектуальный «план Маршалла».
Все индексы расходов на образование, индексы счастья, смертности, разницы в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами в России, мягко говоря, ненормальны. Они не соответствуют стране, которую еще недавно считали «нормальной» в научных статьях, а Всемирный банк переводил в категорию «богатых стран».
— Напрасные авансы?
— Да нет, это так и было до 2014 года. В российском фольклоре это называется «тучные годы». Это не были напрасные авансы, это была констатация экономического роста без понимания природы этого феномена. Хотя источники этого роста были хорошо известны тогда и еще более понятны сейчас. В XXI веке экономический рост за счет вывоза карбонового сырья не может считаться «нормальным».
— Противопоставляя Россию прогрессу, вы тем не менее пишете, что путинизм — это международное явление. Объясните, что именно вы имеете в виду. Уж сейчас-то кажется, что путинизм изолирован чуть ли не стенами одного рабочего кабинета.
— Сейчас — да. Но это прямой результат войны. А до войны это было не так. Вы помните, как к Путину приезжали мировые лидеры и сидели за этим идиотическим столом.
Самый важный момент был связан с президентством Дональда Трампа. Это была международная победа путинизма как системы вкусов и предпочтений, как ролевой модели. Великая страна Америка попала под влияние России и проголосовала за путиниста. Но второй раз этого уже не получилось.
Впрочем, Трамп, может быть, справедливо говорит, что, если бы он был президентом, войны бы не было. Работали бы другие источники влияния и воздействия. В свою очередь, если бы не было войны — внутренний путинизм мог бы если не процветать, то существовать и рассматриваться как солидное нормальное явление. Война была фатальной ошибкой этого режима.
— А вам не кажется, что из-за войны путинизм тоже получил второе дыхание, просто путинизмом его не называют? Кому сейчас какое дело до гипотезы Геи и суперорганизма? Все увеличивают военные бюджеты, думают прежде всего о безопасности, государственные стратегии примитивизируются. Это все вполне путинские идеи, противные современности.
— Все так. Да, с одной стороны, война подорвала российскую экономику и Россия, сколько бы ни вывозила нефть на танкерах без опознавательных знаков, все равно захлебнется в своем ископаемом топливе. Но в более широком смысле — да, путинизм достигает своих целей: дедлайны европейских климатических программ наверняка будут отложены, враждебные планы не сбудутся или сбудутся позже обещанного. Война достигла своего. Ремилитаризация Европы потребует большого количества горюче-смазочных материалов. Никаких сомнений в этом нет.
— Дело же не только в материалах. Это, получается, победа того самого архаичного мышления над современным. Россия побеждает современность?
— Нет. В этот раз не получится.
https://holod.media/2023/04/15/eto-poslednyaya-russka..
https://telegra.ph/Rossiya-protiv-sovremennosti-vizionerskaya-politehkonomiya-Aleksandra-EHtkinda-04-09
«Россия против современности»: визионерская политэкономия Александра Эткинда
Alexander Etkind. Russia Against Modernity. Hoboken: Polity Press, 2023.April 09, 2023
Рецензия канала «Новый тамиздат»
https://www.facebook.com/groups/tamizdato
https://t.me/tamizdato
https://www.youtube.com/watch?v=tDyOCmH7zcU
Россия против Современности// Полный Альбац
Yevgenia Albats
Прямой эфир состоялся 24 апр. 2023 г. NEW YORK
Так называется новая книга профессора Central European University Александра Эткинда. Она вышла в дни, когда в Москве раздавали сталинские сроки, а на фронте живому пленному отрезали голову.
Как такое может происходить в стране с поголовной грамотностью , почти повсеместной доступностью высокоскоростного интернета и претензией на европейскость — обсуждаем с профессором , историком культуры Александром Эткиндом и профессором, экономистом Олегом Ицхоки.
Forwarded from
Журнал «Холод»
Нынешние войны ведут к мировой войне, считает историк Александр Эткинд
Вот что он пишет:
«Для меня ясно, что глобальный конфликт начался как Война за Советское наследство. Вероятность преобразования этой войны в мировую войну усиливается с каждым днем. Этот конфликт, отсроченный после 1991 года чьим-то умением или удачей, вступил в горячую фазу 15 лет назад. США и Европейский союз пытаются остановить или хотя бы ограничить эту войну, но потенциал конфликта не исчерпан. Эскалация не остановится, пока не будут решены назревшие вопросы регионального и общеевропейского порядка.
Беда в том, что эти вопросы назрели не для всех участников. США, которые играют в нынешних конфликтах примерно ту же роль, какую Британская империя играла в Наполеоновских войнах, все еще не поняли смысла нынешней войны и не нашли своего интереса в ней.
Эффект рутинизации, однако, уже достигнут. Раз невероятное возможно, оно становится обыденным и, хуже того, неизбежным. В цепь событий вовлекаются и страны, продолжающие делить Советское наследство, и страны, имеющие к нему весьма косвенное отношение».
Читайте колонку целиком по ссылке
Вторая ссылка (открывается без VPN)
«Холод»
К чему ведут нынешние войны
Да, действительно, к мировой войне — считает историк Александр Эткинд
// https://holod.media/2023/10/17/voina-v-ukraine-privediot-k-tretiei-mirovoi-voine/