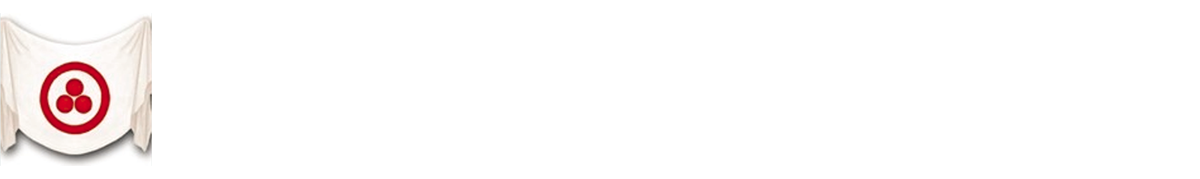Блок и любовь! Блок и Москва! А ведь сегодня — 140 лет со дня рождения его.
Вот — кому интересно! — мой откровенный и возможно, спорный очерк о нем. Но я уверен в том, что написал. Читайте, может и вы — поверите!
«Думали — человек! И умереть заставили. Умер теперь. Навек. — Плачьте о мертвом ангеле!..» Так написала об Александре Блоке Цветаева. Но помните ли вы: стихи эти написаны за пять лет до смерти Блока. Невероятно! Да, поэты — пророки! Ведь так всё и случится: смерть Блока станет и самоубийством, и — убийством его. Умереть именно «заставят» — гениальное слово гения — о гении.
«Уюта — нет, покоя — нет»… Может эту строчку Блока — кто знает? — шептала на перроне одна москвичка вслед огням уходящего поезда. Поезд увозил в Петроград Блока. Увозил умирать. Он только что, склонившись из окна вагона, сказал ей: «Прощайте, да, теперь уже прощайте…» «Я обомлела, — пишет она. — Какое лицо! Какие мученические глаза! Я хотела что-то крикнуть, остановить, удержать поезд, а он все ускорял свой бег, все дальше и дальше уплывали вагоны, окно — и в раме окна незабвенное, дорогое лицо…»
Там, в Питере, на вокзале, его встретит другая, измучившая его и себя женщина, его жена, его когда-то «Прекрасная Дама». Но что думал он в дороге, о чем думал? — неизвестно. Известно другое. Когда-то в молодости он написал в стихах: «О, я хочу безумно жить!» А за полгода до смерти, в одном разговоре, прервав собеседника на полуслове, вдруг спросил: «Вы хотели бы умереть?» И, перебивая ответ, порывисто, горячо, страстно сам же и выдохнул: «А я очень хочу»… Очень!
Вот между этими «хочу жить» и «очень хочу умереть» и уместилась вся сорокалетняя жизнь поэта…
Все было предопределено в его жизни. И все — загадочно. «Меня вело», — скажет Блок. «Я никогда не ошибался в пути. Понимаете? Падал, бился, разбивался, подымался и все шел — меня вело…» Похоже на правду. Разве не загадка, например, внезапное восстановление храма Христа Спасителя, если знать, что у того, старого, стояла когда-то, в начале 20-х годов прошлого века, любимая скамья Блока. У какой-то «белостволой березы». Много раз приходил сюда поэт. Садился вольно, снимал шляпу, смотрел на дымящуюся воду, следил за стрижами, рассекавшими небо у куполов. Искал ли на небе, хочется спросить, то облачко, за которым счастье?
Любил Москву, даже хотел переехать в нее. «Московские люди разымчивы, — писал в юности. — Они умеют смеяться. Они добрые, милые, толстые. В Москве смело говорят о счастье», которое здесь «за облачком», а в Питере — «за черной тучей». В Москве жили его родственники, здесь он впервые был «оценен» как поэт, тут вышли первые книги его, наконец, здесь не только влюбился в будущую жену, но — венчался с ней. Кстати, и к храму Христа Спасителя приходил с женщиной, которая, по ее словам, любила его с 1913 года, а по словам самого поэта — всю жизнь. С той женщиной, которая и проводит его в Петроград, когда жить ему останется три месяца.
Имя ее Надежда Александровна Нолле-Коган. Она переживет поэта на 45 лет, будет воспитывать сына Александра, мальчика с красивыми руками, и умрет в 1966-м. И все это время будет хранить какую-то тайну Блока. И, кажется, не одну. Ведь как раз ей, за год до смерти, в 1920-м, Блок и напишет: «Я Вам расскажу в какую петлю я попал, как одно повлекло за собой другое». Что за тайна — неизвестно. В коротких мемуарах ее осталась лишь фраза: «Рассказывать об этом я не считаю себя вправе, ибо дала слово Блоку никогда и никому об этом не говорить».
Вообще, тайн в жизни его полно. Иные не раскрыты и поныне. Отчего умер? Отчего дважды писал о самоубийстве. В 22 года, гимназистом, вывел в записке: «В моей смерти прошу никого не винить. Причины ее вполне «отвлеченны» и ничего общего с «человеческими» отношениями не имеют». Потом, незадолго до смерти, уже в «Записной книжке», как бы раздумывал: «Руки на себя наложить…» А мистическая встреча с Андреем Белым, поэтом, когда оба, не будучи знакомы, в один день написали друг другу письма, которые «скрестились» в Бологом — не тайна? А два вызова на дуэль? Наконец, два букета будущей жене — ведь совершенно фантастическая история?..
Это случилось у дороги в сторону нынешнего Солнечногорска, у ворот Шахматова. Усадьбы петербургских профессоров, великого Менделеева и деда Блока, ботаника Бекетова, оказались рядом. Менделеевы жили в Боблове, Бекетовы в 7 верстах от них, в Шахматове. «Ваш принц что делает? — посмеивался Менделеев, спрашивая у Бекетова про внука. — А то наша принцесса уже пошла гулять». «Принцессой» звал дочь, двухлетнюю Любочку Менделееву, а «принцем» — трехлетнего Сашуру Блока. Счастливое детство! Корней Чуковский, незаконнорожденный, не без грусти, а может и зависти, напишет: у нас «не было таких локонов, таких дедов, такой кучи игрушек». И такой, добавлю, любви. Ведь, невероятно, но именно тогда Сашура, «Биба», как звали его дома, возвращаясь с дедом из лесу, встретив синеглазую «принцессу» в плюшевом пальто, сидевшую на руках у матери, вдруг протянул ей собранный им букет ночных фиалок. Люба, пишут, растрепала цветы, «потащила» их в рот. Но букет-то был — первый букет «Прекрасной Даме»!
Судьба! Ровно через двадцать лет, 17 августа 1903 года, здесь же в Шахматове, Блок, нервно поглядывая на часы, нарвет Любе другой букет. В то дождливое утро он поминутно будет выбегать к воротам, ожидая специально заказанный в Москве шикарный букет, но уже — для невесты, которая в тот день должна была стать его женой. Шафер его, топтавшийся рядом, давно должен был ехать к ней в Боблово, чтобы везти её под венец. Била копытами тройка белых рысаков, нанятых в Клину, все были «при параде», а заказанных цветов не было. И тогда, пишут, Блок кинулся в домашний цветник и, как в детстве, сам нарвал букет для Любы. Не фиалок, теперь — её любимых розовых астр.
Весь роман их — «родом» из Шахматово. Здесь они, сыгравшие Гамлета и Офелию на домашней сцене (попросту — в сенном сарае!), вдруг «заметили» друг друга, стали ездить в гости, объясняться глазами. Он так полюбит её, что за полгода до свадьбы напишет: «Ты — Первая моя тайна и Последняя моя Надежда… Если мне когда-нибудь удастся что-нибудь совершить и на чем-нибудь запечатлеться… всё будет Твое от Тебя и к Тебе… Я — Твой раб, слуга, пророк и глашатай. Зови меня рабом». А в следующем письме, едва не испугал её: «Вели — и я убью первого и второго и тысячного человека из толпы… Вся жизнь в одних твоих глазах, в одном движении». Она ответит: «Твои письма кружат мне голову, все мои чувства спутались, выросли, рвут душу на части, я не могу писать, я только жду, жду, жду нашей встречи, мой дорогой, мое счастье, мой бесконечно любимый!..» Вот когда рождалась «Прекрасная Дама» тех почти 800 стихов, которые он посвятит ей. И из-за Любы он и напишет ту записку о самоубийстве: «В моей смерти прошу никого не винить…» Просто он сразу увидел в ней не обычную девушку, а предсказанный Владимиром Соловьевым, философом, образ «Вечной Женственности». Кстати, племянник того Соловьева и внук великого историка Сергея Соловьева, а так же троюродный брат Блока по матери, Сергей Соловьев, и окажется тем шафером на свадьбе поэта.
Венчались в церкви Михаила Архангела в Тараканове — между Бобловым и Шахматовым. Свечи, отдельное кресло для Менделеева, деревянные ангелы над иконостасом, а на головах венчавшихся — серебряные, древние — не золотые венцы. Потом, за свадебным столом на 100 персон, «уставленным майонезами, пили «за науку», «за работающего на духовной ниве»». Молодые прямо из-за стола должны были ехать в Петербург. Все еще пировали, когда Люба вышла из своей комнаты, но уже не в белом — в изящном сером дорожном костюме. Под звон рюмок коляска отъехала. «К вечеру, — пишет тот же Соловьев, — я вернулся в Шахматово, где около пруда бродили гуси — свадебный подарок местных крестьян…»
О, шахматовские буколические крестьяне — это особ статья. Потомки их еще живут, наверное, в Солнечногорске. Их прапрадедов дед поэта звал когда-то «малышами», обращался к ним по-французски, а когда встречал кого-нибудь из них со спиленными в его же хозяйстве березой или дубком, то, не догадываясь о воровстве, еще и предлагал: «Ты устал, дай я тебе помогу»… Идиллия! Золотой век! Не удивительно, что у выхода из церкви крестьяне щедро, от всей души, забросали новобрачных хмелем, поднесли им и хлеб-соль, и пару белых живых гусей в розовых лентах. Удивительно другое: через 15 лет, сразу после революции, эти же крестьяне и, разумеется, опять-таки «от души» — разорят и сожгут Шахматово. Доберутся даже до секретных ящичков старинного, еще отцовского, стола Блока, где хранились письма Любы, ее портреты. Какие там гуси, всё растащат из барского дома, а что не растащат — пустят по ветру. Когда Блоку незадолго до смерти привезут из Шахматова уцелевшие обрывки бумаг, архива, он разглядит на них, как запишет: «грязь и следы человеческих копыт (с подковами)». Тоже ведь судьба! Сам ведь торопил, звал в стихах очистительную, справедливую революцию.
Да, его «вело», если говорить про судьбу, про волю небес. И юность, и молодость его подтвердят — всё у него сбывалось. Он стал поэтом, как хотел, женился на «Первой тайне и Последней надежде». Наконец, захотел счастья — оно померещилось ему в московском небе — и получил его.
«Я хотел бы умереть на сцене от разрыва сердца», — ответил Блок на вопрос давней, юношеской еще анкеты. Мечтал быть актером, даже псевдоним выбрал — «Борский». Но, актрисой станет его жена, хотя сцена не раз будет мстить поэту. Уж как-то так получится, что такой «сценой» станет Петербург, а жизнью вольной, не «по роли» — Москва.
Ах, какой красивой, щегольской парой явились они в Москву уже мужем и женой. В морозный день 1904 года нанесли первый визит Боре Бугаеву, — Андрею Белому. «Меня спрашивают в переднюю, — вспоминал он, — вижу: стоит молодой человек и снимает пальто, очень статный, высокий, широкоплечий, но с тонкой талией; и молодая нарядная дама… Веселые, молодые, изящные, распространяющие запах духов». Студент и курсистка, «царевич с царевной». В гостиной (Белый уточнит: «оливковой гостиной») все «пренеловко» сели в «старофасонные» потертые кресла, закурили и, развевая дымки папирос, заговорили о Москве. «И вдруг я, как сорвавшийся с горы камень, — вспоминал Белый, — полетел и понес чепуху. И Саша застенчиво улыбнулся… Улыбнулся душой моей душе. И с этой минуты я по-новому, без памяти влюбился в него». Правда, в тот же вечер выпалит знакомому: «Знаете, на кого похож Блок? На морковь». «Что я этой нелепицей хотел сказать, — писал он, — не знаю» Но имел в виду, думаю, витальность петербургского символиста: его здоровье, его кирпичный румянец и тугой вид.
Блок и Люба поселятся на первом этаже двухэтажного белого домика на Спиридоновке, 6 — в «необитаемой малой квартирке» родственников поэта — братьев Марконетов. Об их житье здесь вспоминали и тот же Сергей Соловьев, и Андрей Белый. Вспоминали, как первый приходил сюда всегда с белыми лилиями, а второй — непременно с розами. Как приходили сюда Брюсов и Бальмонт, как Блок «бегал в угловую лавочку за сардинками», а Люба разливала гостям «великолепный борщ». Бальмонт декламировал написанные Любе стихи: «Я сидел с тобою рядом, Ты была вся в белом…» Он, пишет Белый, «выбрасывал» строчки, «как перчатки, — с надменством: «Вот вам — дарю!»». Брюсов, напротив, читал, словно подавал на стол «блюдо в великолепнейшей сервировке: «Пожалуйста-с!»» А сам Белый, как-то боком, точно по кочкам ходил в черненькой курточке и спрашивал: «Хорошо? Правда? Хорошо, что приехал Блок? Вам нравится Любовь Дмитриевна?» Еще бы! — кричали поэты. Но когда расходились, когда гасли парадные канделябры, лишь двое гостей оставались тут до зари: Белый и Соловьев. Именно тогда они и основали «Братство Рыцарей Прекрасной Дамы». То есть — Любы. «Мы даже в лицо смотреть ей не смели, боялись осквернить ее взглядом, — пишет Белый. — Она, светловолосая, сидела на диване, свернувшись клубком, и куталась в платок. А мы поклонялись ей…»
Короче, Блок влюбился в Москву, а Москва — в Блока. Биографы поэта ныне в один голос говорят, что вообще-то было два Блока. Утренний и вечерний, светлый и темный, трезвый и пьяный, добрый и злой. Даже Люба через много лет, в книге воспоминаний, как бы спросит у нас: «Рассказать… другого Блока, рассказать Блока, каким он был в жизни? Во-первых, никто не поверит; во-вторых, все будут прежде всего недовольны — нельзя нарушать установившихся канонов». Ясно, конечно, что имела в виду. Измены, связи случайные, приступы депрессии, пьяные шатания. Да, было два Блока. Но ярче всего, на мой взгляд, они различались, а, лучше сказать — «делились» на Блока петербургского и того, кого можно назвать — московским Блоком. Он был другим в Москве. Не впадал в загулы, в бездонное отчаяние. В Москве был светлым, здесь был счастлив, наконец, тут у него сбывалось почти всё. Матери признавался: «От людей в Петербурге ничего не жду, кроме пошлых издевательств или «подмигиваний о другом»… Мы тысячу раз правы, не видя в Петербурге людей, ибо они есть в Москве». Любил Москву так, что после двух январских недель «вернулся в Петербург завзятым москвичом». Даже стих сочинил, где изображалась борьба Петербурга с Москвой, антихриста Петра с патроном Московской Руси святым Георгием Победоносцем: «Я бегу на воздух вольный, Жаром битвы упоен. Бейся, колокол раздольный! Разглашай веселый звон!..» «Воздух вольный» — не за это ли любил?! А перед кончиной, в те две последние поездки в Москву, когда ни на день не будет расставаться с Надей Нолле-Коган, даже жить будет у нее, этот вольный воздух «сожмется» для него, рискну сравнить, в два предсмертных глотка. Ведь его и убьет отсутствие воздуха. Помните его слова, сказанные перед смертью? «И Пушкина тоже убила вовсе не пуля Дантеса, — сказал. — Его убило отсутствие воздуха…»
Кстати, «воздух», как некое спасение, помянет и Белый. Влюбившись в Любу, он через два года напишет Блоку: «Клянусь, что… Люба — это я, но только лучший… Ведь нельзя же человеку дышать без воздуха, а Люба — необходимый воздух моей души…» Да, любовь Белого к Любе разведет друзей-поэтов. История не только не простая — долгая. И во многом виновата Люба. Кокетничая, флиртуя с Белым, она взяла с него слово, что он навсегда увезет ее от Блока, даже если она вдруг передумает. «Увезите, — умоляла. — Саша — тюк, который завалил меня». И писала странные, я бы сказал — провокативные письма. «Знаешь ли ты, что я тебя люблю и буду любить? Люби, верь и зови… Целую тебя. Твоя». Через несколько дней меняла мнение: «Несомненно, что я люблю и тебя, но я люблю и Сашу… я его на тебя не променяю». Потом, через три дня, вновь манила: «Теперь люблю тебя, как светлого брата с зелеными глазами». Потом — через день: «Я поняла все. Истинной любовью я люблю Сашу. Вы мне — брат». Наконец, опять через три дня: «Если возьмете всё на себя, приезжайте. Я и твоя, да, да, и твоя. Целую тебя долго, долго, милый…»
Тихий ужас, короче! Как тут не потерять головы Белому? Да и Любе, которая именно тогда и сошла, как сказали бы ныне, «с катушек». В ее жизни почти сразу возникнет поэт Чулков, потом друг Блока — Иванов, а через несколько лет она даже сына родит от «хулигана-актеришки», по словам Блока, от «молодого хищника» Давидовского, которого наречет «пажем Дагобертом». Сын умрет через 8 дней, хотя Блок примет его и даже имя придумает — Дмитрий. Так сцена отомстит ему в первый раз. Но, возвращаясь к Белому, можно сказать, что конфликт между ним и Блоком и без Любы был неизбежен. Уж слишком разными они были. Зинаида Гиппиус, поэтесса, зорко сравнит их: «Серьезный Блок — и весь извивающийся Боря… Блок весь твердый, точно деревянный… Боря весь мягкий, сладкий, ласковый… Блок исключительно правдив… Бугаев… исключительно неправдив. Блок по существу верен… Бугаев — воплощенная неверность… Но если в Блоке чувствовался трагизм — Боря был… мелодраматичен…» Так что в Москве лоб в лоб «столкнулись» трагедия Блока и — мелодрама Белого. Через два года после первой встречи, в 1906-м, Белый бросит Блоку жуткую, немыслимую меж ними фразу: «Один из нас должен погибнуть…» И вызовет того на дуэль. Всё будет меж ними: и решающий разговор в ресторане «Прага», настолько короткий, что они не успеют даже притронуться к токайскому, который разлил уже официант. И новый вызов на поединок, но теперь со стороны Блока, когда Белый публично обвинит его в «лакействе» перед толпой, в «предательстве» своего дара. И зыбкое примирение, нечаянный разговор, который, начавшись в квартире Белого, шел, вообразите, 12 часов и закончился на рассвете у площади трех вокзалов, куда Белый пошел провожать Блока к семичасовому поезду. «Так будем же верить», — доверчиво скажет один из них на перроне. «И не позволим людям стоять между нами» — ответит другой. «Я шел по Москве, — вспоминал Белый то утро, — улыбаясь и радуясь: просыпалась Москва…» Всё было. Но через 23 года, в 1930-м, Белый раздраженно скажет знакомому: «Откуда взялся миф о нашей дружбе с Блоком? Мы с ним были дружны всего два года. Остальные годы изжили всё…» И не без издевки добавит о друге: «Первая скрипка! Но только первая скрипка!..» Нет, права была Гиппиус, «неверность» Белого и впрямь была его сутью. А Блок именно тогда, после второго несостоявшегося поединка, и напишет Белому, возможно, главные слова. «Я — очень верю в себя, ощущаю в себе какую-то здоровую цельность и способность и умение быть человеком — вольным, независимым и честным… Душа моя — часовой несменяемый…»
Только через четыре года, 1 ноября 1910 года они встретятся вполне мирно. Сначала в роскошном особняке Морозовой на Смоленском бульваре, где среди вуалей, лорнетов, визиток и сюртуков Белый читал доклад о Достоевском, и где Блок искренне радовался за него, а на другой день — в «Мусагете», в издательстве на Гоголевском бульваре, куда Белый позовет Блока. Здесь, в доме № 31, который тоже сохранился, сходились Леонид Андреев, Бальмонт, Брюсов, Бунин — потом Северянин и даже юная Цветаева. Издательство занимало тут три комнаты, но ту «косоугольную с палевыми стенами», где в кресле курил Блок, ныне, конечно, не найти. От того ноябрьского денька (к вечеру пошел снег!) только и останется сборник стихов Блока «Ночные часы», изданный «Мусагетом». Впрочем, книгу эту тоже не найти ныне — раритет из раритетов. Но именно её, тонкую книжечку стихов, Блок скоро и засунет торопливо в муфту одной петербургской красавице, которая нахально, чтобы не сказать — нагло, вломится в его квартиру. Не в квартиру даже — в жизнь. Я говорю о Наде Нолле-Коган.
Первый раз они встретятся в 1912-м. Она, дочь врача, москвичка по рождению, жила тогда в Петербурге. Её муж Петр Семенович Коган (он был учителем литературы в ее гимназии), служил приват-доцентом Петербургского университета, а она — 24-летняя восторженная девушка — училась на филфаке Бестужевских курсов. И как-то в мае возвращалась под вечер с Островов.
«Я возвращалась с Островов. Уже темнело. Я проголодалась и зашла в кафе. Заняв свободный столик, пошла звонить по телефону. Вернувшись, застала сидящего за моим столиком Блока. Но в этот момент соседний столик освободился, и Блок, извинившись, пересел»… Вот и вся встреча. Для Блока. Но — не для нее. Ибо после этого вечера она почти год решалась написать ему письмо. Бросит его в почтовый ящик в марте 1913-го. А в письме (не трудно представить, что пишут девушки поэтам!) была-таки одна фраза. Надя спрашивала: не разрешит ли Блок присылать ему иногда красные цветы. Просто так! «Да, если хотите. Благодарю Вас. Мне было очень горько и стало легче от Вашего письма» — почти одной строкой, вежливо, но — не больше, ответит он. И полтора года, до 28 ноября 1914-го, Блок, вместе с Надиными письмами, будет получать букеты роз. А 28 ноября Надя решится и впервые придет к нему домой — вломится — я не ошибся в выборе слова.
«День был снежный, бурный, — пишет она. — Проводив мужа, я перешла Дворцовый мост и медленно направилась в сторону Офицерской… Решительно отворила дверь подъезда, поднялась на четвертый этаж и позвонила… Отворила опрятная горничная… Вешалка, висит шуба, лежит его котиковая шапка. «Барина дома нет», — сказала горничная, но я почему-то не поверила. «Нету? — переспросила я. — Ну, что же, я вернусь через два часа». Прислуга изумленно взглянула на меня…» Наняв извозчика, Надя помчалась в магазин Гвардейского экономического общества, в дом, который потом назовут «ДЛТ» — Дом ленинградской торговли. Поднялась в кафе. Затем, купив букет алых цветов, поймала лихача, и через полчаса вновь стояла у дверей Блока. На этот раз горничная молча помогла ей скинуть шубу и провела в кабинет. Блока в нем не было, хотя незримо — он был. Был в полумраке комнаты, в горящей настольной лампе, в придвинутом к еще теплой голландской печке кресле. Надя положила цветы на стол и почти сразу услышала быстрые, легкие шаги. «Так это вы?» — узнал ее по букету Блок. «Да», — кивнула дерзкая девица.
Так начался почти семилетний роман её. Она запомнит его первые вопросительные — украдкой — взгляды на неё, то, как он ходил по комнате, как, закурив, присаживался у печки, чтобы дым вытягивало в трубу. Пишет, что ей сразу стало «привольно, просто и легко». А когда собралась уходить, Блок торопливо сунул в ее муфту, к ее горячим рукам ту «мусагетовскую» книжечку. Она успеет прочесть на обложке — «Ночные часы»…
Он подарит ей потом еще 6 своих книг. На последней, на сборнике «Седое утро», напишет: «Эта самая печальная моя книга. Октябрь 1920». А вообще она и сама будет помогать ему выпускать книги, искать издательства, вести переговоры с театрами, устраивать его вечера, собирать посылки. Дружба, похожая на любовь? Или — любовь, напоминающая дружбу?
В Петербурге у Блока будет тьма романов, а в Москве — одна она. В год, когда он увиделся с Надей, у него как раз «состоялась» встреча с его «Кармен» — с Андреевой-Дельмас. До того была «Снежная маска» — актриса Волохова. Я уж не говорю о преданных поклонницах, которые, случалось, обцеловывали дверную ручку его квартиры или — известный случай! — часами незаметно преследовали его на улицах, украдкой подбирая за ним окурки папирос и пряча их в «заветную» коробочку. Что говорить, даже гимназическая любовь Блока Ксения Михайловна Садовская, до самой смерти хранила его письма. Ей, когда в нее влюбился 17-летний Блок, было, как помните, 37. Она была уже статская советница, мать троих детей, а вот — поди ж ты… Как стало известно ныне, потеряв в Гражданскую войну детей, состояние и мужа, она, сумасшедшей нищей старухой окажется в одесской больнице, где врач, лечивший ее, узнает в ней «героиню» стихов Блока из цикла «Через двенадцать лет». Совпадет с ее инициалами посвящение поэта: «К.М.С.». «Выяснилось, — пишут ныне, — что неизлечимо больная, полубезумная женщина и есть та синеокая богиня, о которой писал Блок. О посвященных ей бессмертных стихах она услышала впервые» Но, когда она умрет, тогда и узнают, что, «потеряв решительно всё, старуха сберегла пачку писем», полученных 25 лет назад». В подоле ее юбки было зашито 12 писем Блока, перевязанных крест-накрест алой лентой. Вот ведь как любили его! А он надо признать по-настоящему любил только, кажется, Любу — ту «принцессу» из Боблова, «Офелию» — из Шахматова, ту «маленькую Бу», как звал ее дома. Может это и есть — главная тайна его? И — главная трагедия? Ведь в 1916-м он запишет в дневнике: «У меня женщин не 100-200-300 (или больше?), а всего две: одна — Люба; другая — все остальные…» А еще одну запись в дневнике, и тоже от 16-го года, без острой жалости к поэту читать невозможно: «Ночью, — пишет Блок, — из комнаты Любы до меня доносится: «Что тебе за охота мучить меня?..» Я иду с надеждой, что она — сама с собой обо мне. Оказывается — роль. Безвыходно всё для меня. Устал, довольно…» Да, сцена опять мстила ему, и мстил Петербург — тоже, образно говоря, огромная сцена его, с кулисами-туманами и тяжелыми, как колосники, низкими тучами.
Спасала Москва. Он, как преступник на место преступления, рвался туда, где испытал когда-то счастье: с женой, с друзьями, с поэзией. В 1917-м, в самую апрельскую капель, возник на улочках первопрестольной в «защитке». В военной форме: в фуражке, высоких сапогах, в шинели, перехваченной ремнями. Приехал в отпуск из прифронтовых болот, где он, табельщик 13-й инженерно-строительной дружины, «заведовал» окопами, траверзами, ходами сообщения, строительством и пулеметных гнезд, и блиндажей. Он только что вконец разочаровался в войне и только-только впадал в мальчишеское очарование от чуда свершившейся февральской революции. Ведь красный флаг над Зимним в Петрограде — не чудо?! В дневнике записал: «Труд — это написано на красном знамени революции. Труд — священный труд, дающий людям жить, воспитывающий ум и волю и сердце». Матери в те дни писал: «Жалеть-то не о чем, изолгавшийся мир вступил… в ЛУЧШУЮ эпоху… Это признак, что мы устали от вранья». Скоро напишет ей: «Я подал голос за социалистический блок (с.-р с меньшевиками)… и был очень рад, когда выяснилось, что швейцар, кухарка, многие рабочие тоже подали голоса именно за этот список». И допишет: «А в тайне (склоняюсь) — и к большевизму…» А Любе, бывшей в то время на гастролях, вскоре напишет про интеллигенцию ну прямо, как Ленин: «Если «мозг страны» будет продолжать питаться все теми же ирониями, рабскими страхами, рабским опытом усталых наций, то он и перестанет быть мозгом, и его вышвырнут… Какое мы имеем право бояться своего великого, умного и доброго народа?..» Увы, скоро этот «народ», чернь — конечно, его первого и вышвырнет из жизни. Да что из жизни — из истории литературы! Сам Фадеев, генсек Союза писателей СССР, через десятилетия, в начале 1950-х будет грозить с трибуны ему, давно мертвому: «Если бы Блок не написал «Двенадцать», мы бы его вычеркнули из истории советской литературы». Так будут «любить» его красные. Но ведь и белые за ту же поэму не только отвернутся от него — будут грозить убийством. Сам адмирал Колчак, ныне всеобщий любимец, пообещает: если возьмем Петроград, то прежде всего повесим Горького и Блока. Да, да — это факт!
Впрочем, в апреле 17-го поэмы еще не было, а Блока в Москве ждал Художественный театр, где он должен был читать свою пьесу «Роза и крест». «Раннее утро, ярко освещенное солнцем большое фойе театра», — вспоминала о встрече с ним актриса Гзовская. Вся труппа в сборе: Немирович, Качалов, Лужский, Лилина, Берсенев, Германова. И — минуту в минуту — Блок! Видно было, пишет Гзовская, что он взволнован, что, прищурив «лучистые глаза» он чаще смотрел в окно, чем в лежавший перед ним текст — читал почти наизусть. Именно Гзовская, гуляя с поэтом в военной форме, запишет потом: «Блок очень любил московские старинные улицы и переулки». И вспомнит, как, проходя мимо какого-то дворика, он посмотрев на маленькую церквушку, на огни свечей сквозь стекла её, улыбнулся и сказал: «Вот странно — ношу фамилию Блок, а весь я такой русский. Люблю эти маленькие сады около одноэтажных деревянных домишек…» Увы, пьеса «Роза и крест» так и не будет поставлена ни в тот год, ни потом. Спектакль, уже на генеральной, забракует Станиславский. Добужинский, художник, оформлявший его, назовет это «катастрофой». «Были обижены все, — пишет, — и Блок, и Немирович, и я». Да только ли обижены? Ведь для Блока были еще, извините, и меркантильные «последствия», вернее — отсутствие их. Попросту — деньги. Тоже «петля». Ведь в конце 1915-го, он, «проев» отцовское наследство, написал, что положение его не просто критическое — аховое. «»Честным» трудом прожить среднему и требовательному писателю, как я, почти невозможно, — жаловался в дневнике. — Посоветуйте ж, милые доброжелатели, как зарабатывать; хоть я и ленив, я стремлюсь делать всякое дело как можно лучше». Ах, сцена, сцена! Розы еще будут ему в Москве, а вот крест, вернее, крестик, та же Цветаева, именно в 16-м году, написавшая про то, что его «заставят» умереть, увидит в руках у Нади Нолле только после смерти поэта. Крестик, увитый розами.
«ЧЕЛОВЕК С ОБОДРАННОЙ КОЖЕЙ»
«Остановить бы движение, пусть прекратится время», — сказал Блок Горькому за год до смерти. Даже ногой топнул. Сначала вынес приговор себе: «Большевизм, — сказал Буревестнику, — неизбежный вывод всей работы интеллигенции на кафедрах, в редакциях, в подполье…» А потом спросил, что тот думает о бессмертии. Начитанный Горький сказал, что ученый Ламеннэ считает — все в будущем повторится, и через миллионы лет в хмурый вечер они опять будут сидеть вдвоем и говорить о бессмертии. Тогда мало кто знал о Большом взрыве, о расширяющейся Вселенной, о сингулярной точке, о чем знают ныне даже школьники. «А вы, вы лично, что думаете?» — уперся Блок. И когда Горький пробормотал что-то о превращении всего в сплошную мысль, Блок перебил его: «Дело — проще, — сказал, — мы стали слишком умны, для того, чтобы верить в бога, и недостаточно сильны, чтобы верить только в себя». Вот после этих слов и бросил: «Остановить бы движение…» Да, остановить бы! Может, тогда мы разгадали бы, отчего звали его «сфинксом»?
«Человек с ободранной кожей», — скажет о нем Георгий Иванов, поэт. Гумилев, отнюдь не друг, признает: «Он удивительный… Если бы прилетели к нам марсиане, я бы только его и показал — вот, мол, что такое человек». А Цветаева, назвавшая его «сплошной совестью», будет так боготворить его, что, посвятив ему цикл стихов, увы, не решится сама передать их. Передаст через дочь. Все стихи передаст, кроме того, где уже предсказала его смерть. Из суеверия, из убеждения, что всё сказанное в рифму — сбывается…
Всё случится 14 мая 1920 года в Доме искусств на Поварской. «Выходим еще светлым вечером, — вспоминала Аля, 7-летняя дочь Цветаевой. — Марина объясняет мне, что Блок — такой же великий поэт, как Пушкин». Цветаева же, увидев Блока, запишет: «Худое желтое лицо с запавшими щеками… большие ледяные глаза, короткие волосы — некрасивый… Одежда сидит мешковато, весь какой-то негнущийся — деревянный!.. В народе бы сказали: убитый». Но тут же добавит: «Всё! всё! всё в мире бы отдала за то, чтобы — ну, просто, чтобы он меня любил!» Радовалась, что вокруг него «изумительные уроды», что он не красив и других не очаровывает: «Значит — больше мой!» Но особо ликовала, когда поймала «волну», на которой он думал. Просто все в зале стали просить Блока прочесть еще и «Незнакомку». «У меня на губах, — пишет Цветаева, — «Седое утро!» Зала: «Незнакомку!..» Я, молча: «Седое утро!» Зала: «Незнакомку! Незнакомку!» Я, окаменев, «Седое утро!..»» И в ту же секунду Блок, словно услышав ее, тихо объявляет: «Седое утро»…
Ей очень хотелось подойти к нему. Чего, казалось бы, проще: «Я такая-то…» Но в тетради после этих слов вывела: «Обещай мне за это всю любовь Блока — не подойду». И не подошла. Когда вечер окончится, попросит знакомого подвести к Блоку Алю с конвертом ее стихов. «Я, когда вошла в комнату, где он был, сделала вид, что просто гуляю, — пишет Аля. — Потом подошла к Блоку. Осторожно взяла его за рукав. Он обернулся. Я протягиваю письмо. Он шепчет: «Спасибо»». Цветаева скажет, что жадно подглядывала из зала, как синий конверт ее Блок медленно прятал в нагрудный карман. «Так близко от сердца — в котором я никогда не буду», — запишет. И неожиданно добавит: «Боюсь, что скоро умрет. Нельзя — т а к — без радости…»
Больше его не увидит. Но, не увидев — фантастика! — узнает, как Блок в тот же вечер, улыбался, читая ее письмо. Это расскажет ей позже Надя Нолле, у которой Блок жил в Москве. Расскажет, что письма и записки читала ему она, после позднего чая. «Так было и в этот вечер, — запишет Цветаева её слова. — «Ну, с какого же начнем?» — рассказывала Надя Цветаевой. — Он: «Возьмем любое». И подает мне — как раз Ваше. Вскрываю и начинаю читать, но у Вас ведь такой почерк… Да еще и стихи… И он, беря у меня из рук листы: «Нет, это я должен читать сам». Прочел… и потом такая до-олгая улыбка. Он ведь очень редко улыбался, за последнее время — никогда…» Как слушала рассказ Нади Цветаева непредставимо; она ведь в ревности, да еще — к «божеству», не уступила бы никому. Ведь, записав это, она, уже подруга Нади, тут же едко добавит про нее: вот такие — обыкновенные, слабые всегда будут побеждать — «такие с Блоком, а не я…»
Блока позвала в Москву Надя. Поселила у себя, в 3-комнатной квартире на Арбате, где жила с мужем — уже 40-летним Петром Коганом, уже профессором МГУ, кого Цветаева назовет «ангелом-хранителем писателей». Тот май 1920-го окажется феерическим для Блока — последняя московская феерия. Все 11 дней звонки, письма, цветы, паломничество молодежи. «Он, — пишет Надя, — повеселел, помолодел, шутил, рисовал карикатуры». Надя отдаст ему ключи от квартиры, и по утрам сквозь сон будет слышать, как тихо хлопала дверь — поэт уходил гулять, чтобы к завтраку вернуться с цветами. Но про «убитость» Блока в тот приезд Цветаева написала не зря — он еле скрывал от Нади и раздражение свое, и усталость. Надя спасала его, как могла. Почти сразу поедет к нему в Петроград, подружится с матерью Блока, с Любой, будет вытаскивать его на прогулки и однажды, в Летнем саду, поэт и поведает ей о той тайне, о которой она так и не скажет никому. А через 9 месяцев, когда Надя будет на последнем месяце беременности, вновь вытащит его в Москву. Увы, теперь и Москва не спасет его.
«БОЛЬШЕ СТИХОВ ПИСАТЬ НЕ БУДУ…»
Последний раз приехал в Москву 2 мая 1921-го. Народ еще праздновал День трудящихся — весь город в кумаче. Приехал читать стихи про никому уже не нужные туманы, бездонности, боль несказанную. Не хотел ехать, уговорили Чуковский и как раз Надя. Она звала заработать денег. Чуковский — «развеять» Блока. Оторвать от дома, где стены, по его словам, были «отравлены ядом», и где жена, «Прекрасная Дама», уже «в открытую» сошлась с артистом клоунады Жоржем Дельвари. Театр мстил уже до «разрыва сердца», хотя клоун — это было, кажется, слишком. Он ведь не знал, что в квартире Горького публика в это время, смеясь, судачила как Люба только что подралась с соперницей, с женой этого клоуна. Зонтиками колошматили друг друга, что, как вы понимаете, было особенно смешно. И не знал пока единственной радости, того, что сутки назад, 1 мая, в селе Кезево под Петроградом, у него родилась дочь. Александра. Установленный ныне факт. Матерью стала Александра Чубукова — жена Константина Тона, сына, кстати, создателя храма Христа Спасителя. А через месяц и у Нади родится сын. Тоже Александр, как и Блок. И тоже, я уверен — его сын…
Надя встречала Блока и Чуковского на вокзале. Стараясь не замечать палки, на которую опирался Блок, подвела к «делонэ-бельвилю», шикарному автомобилю. Машину дал Наде сам Каменев, сын его и сидел за рулем. «Машина — чудо, — пишет в дневнике Чуковский, — бывшая Николая Второго, колеса двойные, ревет как белуга. Сын Каменева с глуповатым и наглым лицом беспросветно испорченного хамёнка. Довезли в несколько минут на Арбат к Коганам. У Коганов бедно и напыщенно, но люди они приятные. Чай, скисшая сырная пасха, кулич…» А Надя запомнит, что «с первого часа… ощутила незримое присутствие какой-то грозной, неотвратимой катастрофы».
Дневник Чуковского фиксирует: уже после первого выступления поэт понял — приехал зря. «Сбор неполный, — пишет Чуковский. — Это так ошеломило Блока, что он не хотел читать. Наконец, согласился — и, спустя рукава, прочитал 4 стихотворения». Уйдя в комнату за сценой, несмотря на мольбы, ни за что не хотел выходить на аплодисменты. Потом вышел и прочел чьи-то стихи по латыни, без перевода. «Зачем вы это сделали?» — спросил Чуковский. — «Я заметил там красноармейца вот с такой звездой на шапке. Я ему их прочитал…» Чуковский пишет: «Меня это… потрясло!»
Не знаю, поведал ли Блок Наде, но родственникам Кублицким, которых, как известно, навестил в этот приезд, наверняка рассказывал про свою жизнь в Петрограде. Как однажды его арестовала ЧК, и на Гороховой, на забитом людьми чердаке, он спросил у соседа: «Мы отсюда выйдем?» — «Конечно! — сказал тот. — Разберутся и отпустят». — «Нет, — ответил Блок, — мы отсюда никогда не выйдем. Они убьют всех». И ведь могли убить, ведь в два часа ночи его вызвали к самому Байковскому, следователю. Только недавно, несколько лет назад, в книге работника КГБ Бережкова, я прочел, что этот Байковский, сын торговца мясом, не одолевший даже вступительных в гимназию, в ЧК стал заведующим следствием и «первым принимал решения о судьбе всех, попавших сюда». «Не имея доказательств, на основании личных показаний или анкеты, — пишет Бережков, — выносил приговоры о расстрелах; использовал лжесвидетелей, создавал условия, при которых арестованный «ломался»…». И этот Байковский, как пишет уже Блок, вдруг чудом выпустил его… Рассказывал, думаю, и как «уплотняли» его, и как заставляли в очередь дежурить у ворот и какой-то шутник, проходя мимо, расхохотался ему в лицо: «И каждый вечер в час назначенный, иль это только снится мне», и как ходил на общественные работы — разгружать баржу, как голодал и замерзал. Хотя ему и рассказывать было не надо; все ведь видели, что человек с «упорно-веселым» взглядом, который любил жизнь и все в ней делал на совесть: косил траву, рыл землю, колол дрова, который не раз повторял, что работа везде одна — «что печку сложить, что стихи написать», так вот этот человек в два буквально года превратился в обглоданного, жалкого старика… Старика в сорок лет!
Про последнюю Москву его писать трудно. Слова нейдут. После второго или третьего вечера, Надя, разбудив мужа на рассвете, уже одетая, шепотом перескажет ему слова Блока: «Он говорит, что больше никогда не будет писать стихов…» В то утро она проснулась от шагов поэта за стеной, глухого кашля и даже, как показалось, стонов. Когда вошла к нему, он сидел в кресле спиной к двери. На столе — плетенный из соломки портсигар, смутно белевшая бумага, в руках — карандаш. «Я заметила, что лист был исчерчен какими-то крестиками, палочками». Блок встал, отбросил карандаш: «Больше стихов писать не буду». Надя, успокаивая его, сказала, что спать уже не хочет, и позовет пройтись. Вот тогда по спящим переулкам они и пойдут к скамье у Христа Спасителя в последний раз. Не знаю, говорил ли он в тишине рассветной Москвы то, что сказал накануне поездки в Москву Анненкову, художнику: «Мы задыхаемся, мы задохнемся все. Мировая революция превращается в мировую грудную жабу!.. Опротивела марксистская вонь. Хочу внепрограммно лущить московские семечки, катаясь в гондоле по каналам Венеции». Но если не говорил ничего, если ковыляли по гулким улицам в молчании, то это было, думаю, еще страшней. «Дойдя до скамьи, сели, — пишет Надя. — С реки тянуло запахом влаги, в матовой росе лежал цветущий сквер, а в бледном небе постепенно гасли звезды… Мало-помалу Блок успокаивался, светлел… рассеивались ночные кошмары… Надо было, чтобы в этой тишине прозвучал чей-то голос, родственный сердцу поэта, чтобы зазвенели и запели живые струны в его душе». И Надя, нарушив молчание, стала вдруг читать Фета: «Передо мной дай волю сердцу биться И не лукавь. Я знаю край, где все, что может сниться, Трепещет въявь…»… Вспомнить дальше не смогла. И тогда Блок, впервые улыбнувшись, подхватил: «Скажи, не я ль на первые воззванья Страстей в ответ, Искал блаженств, которым нет названья, И меры нет…»
Последний, почти счастливый, миг. Ибо дальше — мрак, «кошачий концерт», как назовут последний вечер его, когда ему прилюдно бросят, что он — «мертвец».
Это скажут в Доме печати, в Домжуре. Здесь, после чтения Блоком стихов, на сцену выскочит красноармеец, который прокричит, что он ничего не понял. А потом взойдет тот, кто, кажется, понял всё: некий Струве, завотделом губернского Пролеткульта. Этот гаркнет: «Где динамика? Где ритмы? Все это мертвечина, и сам Блок — мертвец». В зале встанет гробовая тишина. Ведущий, молодой тогда Антокольский, промолчит. На защиту кинется поэт Бобров, потом Коган, муж Нади. Но, увы, уже полыхали шум, крики, смех. Маяковский зевал, он напишет потом: «Я слушал его в зале, молчавшем кладбищем, он читал старые строки о цыганском пении, о прекрасной даме — дальше дороги не было. Дальше смерть…» Особо неистовствовали имажинисты — они после смерти Блока устроят нечто уж и вовсе запредельное — поминки с докладом «Слово о дохлом поэте». Тогда, пишут, Есенин и порвет с ними. Но самыми страшными станут за кулисами слова самого Блока. Чуковский запомнит их: «Верно, верно! — прошепчет поэт. — Я действительно мертвец»..
«Воспаление сердца» — это диагноз. Есть такая болезнь. «Говорящая», кстати, для поэтов. Ведь еще в молодости Блок написал: «Не откроем сердца — погибнем… В таком виде стоит передо мной моя тема, тема о России… Этой теме я сознательно и бесповоротно посвящаю жизнь». И выделил, подчеркнул слова: «Сердце», «Россия», «Жизнь». И вот — «подкрадывающееся воспаление сердца», или, как подтвердят нынешние врачи, «подострый септический эндокардит».
Причина проста, всё что символисты лишь для красы писали, порой, с большой буквы — страсть, отчаяние, ликование, ненависть — Блок сейсмографически переживал сердцем. Актер на сцене? Часовой души? Нет — лунатик, идущий по краю жизни, готовый очнуться вдруг и сорваться в пропасть. Так, слово в слово, скажут о нем несколько человек. Но вот загадка: смерть его — убийство, или — самоубийство?..
Всё вообще довольно странно. За 40 лет почти не обращался к врачам. В 6 лет перенес плеврит, в 12 воспаление среднего уха, в 13 — корь и бронхит, в 16 — подозрение на малярию. Всё! Здоровый человек. Кирпичный румянец, тугой, как морковь (Андрей Белый прав)! За год до смерти купался в ледяном заливе, косил, копал, пилил и колол дрова, таская их на четвертый этаж, и до последнего дважды в день совершал 10-километровые «походы» на службу: в издательство «Всемирная литература», в Большой драматический театр. И — в два месяца — смерть. Нет, тут не только эндокардит. После Москвы, он сам поставит себе диагноз, напишет Чуковскому: «Слопала-таки поганая, гугнивая родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка…»
«Он умер от «Двенадцати», как умирают от разрыва сердца», — скажет Георгий Иванов. Тот Иванов, кто однажды при Блоке мимоходом бросит: поэзия — забава, дело веселое и легкое. Блок на лету «поймает» эту фразу: «Да, — скажет. — Не за это ли убили Пушкина и Лермонтова?» И уйдет, не прощаясь. А из жизни уйдет, так и не узнав, что, как установили ныне, сам был в родстве с Пушкиным: племянник прадеда его был женат на Надежде Веймарн — праправнучке Ганнибала. Меня это, кстати, не удивило: гении — родня. Хотя в гробу лицо Блока напоминало даже не Пушкина — самого Данте.
Умирал тяжело. «Мне пусто, мне постыло жить!» — последняя строчка поэта на земле. Последними словами к Любе стали: «Почему ты в слезах?..» «Жить не хотел, — пишет Андрей Белый, — к смерти готовился». «Гибель лучше всего», — признался тетке. Перед смертью, в чаду болезни разбил голубую вазу, подарок Любы, зеркало, с которым брился, запустил кочергой в Аполлона, стоявшего на шкафу: интересно, «на сколько кусков распадется эта рожа». После этого испугано плакал, хватался за голову: «Что же со мной?..» Бредил об одном, пишет Г.Иванов: все ли экземпляры «Двенадцати» уничтожены? «Люба, хорошенько поищи, и сожги, всё сожги». Вспомнив о поэме, посланной Брюсову, кричал: «Я заставлю его отдать, я убью его». Эти факты «блоковеды» десятилетиями звали «злобной клеветой» эмигранта Иванова. Но Белый вспомнит, матери Блок тоже вдруг сказал: «А у нас в доме «столько-то» (не помню цифры) социалистических книг; их — сжечь, сжечь!» Да, тяжело умирал. По ночам так кричал, что стыла кровь. Могла спасти Финляндия, санаторий. Даже деньги нашли уже — 5 тысяч марок. Но разрешение на выезд, пришло через час после смерти. Не эндокардит — его убила наша «рассейская», наша «гугнивая» волокита. О выезде ходатайствовал Горький. 3 мая 1921 года (Блок еще был в Москве) написал об этом Луначарскому. Тот молчал почти месяц. Тогда же Всероссийский союз писателей обратился к Ленину. Ленин не ответил, а Луначарский свое письмо передал в ЦК лишь 10 июня. В 1995-м открыли протоколы Политбюро, и стало известно, что ЧК лишь 29 июня после всех обращений, доложило Молотову, секретарю ЦК, что… «не видит оснований» для выезда Блока. Тогда, и опять лишь через 13 дней, 11 июля Луначарский обратится к Ленину лично: «Я еще раз… ходатайствую о немедленном разрешении Блоку выехать в Финляндию». Ленин на полях напишет: «Тов. Менжинский. Ваш отзыв?..» Член коллегии ВЧК Менжинский (кстати, родственник первого мужа жены Андрея Белого и когда-то сам литератор), отозвался немедленно. Но как?! «Блок, — написал, — натура поэтическая; произведет на него дурное впечатление какая-нибудь история, и он совершенно естественно будет писать стихи против нас. По-моему, выпускать не стоит…». Именно с этим аргументом вопрос и был «вынесен» на Политбюро. Троцкий и Каменев проголосовали «за» выезд. Ленин, Зиновьев и Молотов — «против». Тогда, вновь с подачи Горького, Луначарский уже 16 июля направил очередное послание в ЦК: «Могу… заранее сказать результат, который получится вследствие (такого) решения. Высоко даровитый Блок умрет недели через две…» Лишь после этого Ленин присоединится к меньшинству, а Молотов — воздержится. Блоку разрешат выезд, но без жены: ее оставляли заложницей. 29 июля, когда до смерти поэта оставалось 8 дней, Горький телеграфировал Луначарскому о необходимости выезда жены — Блок прикован к постели. 1 августа Луначарский вновь обращается в ЦК. И только 5 августа вопрос о выезде Любы партия, наконец, признает.
До смерти Блока оставалось два дня. «Заставили» умереть; верно написала когда-то Цветаева.
Тайны Блока живут до сих пор. Лет десять назад, мы снимали фильм о поэте. Всё было готово и всё могло рухнуть из-за того, что нигде: ни в архивах, ни в музеях, ни в коллекциях не было ни одной фотографии Нади Нолле. В последний момент мне отзвонили из музея Цветаевой: «Ищите, — сказали, — писателя Александра Кулешова, он сын Нолле». Так я оказался в квартире Кулешовых. Увы, сын Нади был уже мертв, но была жива еще его жена, Анна Наумовна, и, здравствующая поныне, их дочь, тоже — Надежда Александровна, как и бабушка ее. Фотографии Нади Нолле я, конечно, нашел. Но меня поразил снимок на книжной полке. Это был Блок в детстве, его-то лицо я знал. «Нет-нет, — возразила Анна Наумовна, — это не Блок, это мой муж. Ему здесь года два-три…» Так начались новые поиски, новое «кино»…
Известно, Блок так и не узнал при жизни, кто родился у Нади. В одном из последних писем ей написал: «Во мне есть, правда, 1/100 того, что надо было передать кому-то, вот эту лучшую мою часть я бы мог выразить в пожелании Вашему ребенку, человеку близкого будущего. Это пожелание такое: пусть, если только это будет возможно, он будет человек мира, а не войны, пусть он будет спокойно и медленно созидать истребленное семью годами ужаса. Если же это невозможно, если кровь все еще будет в нем кипеть, и бунтовать, и разрушать, как во всех нас, грешных, — то пусть уж его терзает всегда и неотступно прежде всего совесть…» Письмо-наказ, завещание? Не знаю. Знаю, что, узнав о смерти Блока, Надя, «кормя сына, вся зажалась внутренне… А десять дней спустя ходила в марлевой маске — ужасающая нервная экзема от «задержанного аффекта»». Это уже слова Цветаевой.
«В 1921 году, вскоре после смерти Блока, — пишет Цветаева, — я подружилась с последними друзьями Блока, Коганами, им и ею». Цветаева посвятит Наде цикл стихов «Подруга», а ее сыну — цикл «Вифлеем». В посвящении напишет: «Сыну Блока, — Саше». Об отцовстве знала от самой Нади. Знала, что муж Нади сказал: «Ну, пусть это будет наш ребенок». Более того, в 1924-м, в эмиграции, прямо напишет знакомому: «Хочу подарить Вам своих друзей Коганов, целую семью… Там блоковский мальчик растет — Саша, уже три года». И допишет: «Видела его годовалым: прекрасным, суровым, с блоковскими тяжелыми глазами… Похож — более нельзя… Видела подарки Блока мальчику: перламутровый фамильный крест, увитый розами… Видела любовь Н.А.Коган к Блоку… Мальчик растет красивый и счастливый… Будут говорить «не блоковский» — не верьте: это негодяи говорят». И чуть не расплачется в берлинском кафе, когда кто-то посмеется над её уверенностью.
Пишу и кожей чую, как хватаются за сердце «испытанные» блоковеды! Помню их реакцию, когда в начале 90-х на экранах телевизоров вдруг возникла женщина, похожая на Блока. Дочь поэта от актрисы Чубуковой, которая родилась, помните, 1 мая 21 года. Ее воспитала Мария Сакович, врач БДТ, приемная мать дочери Блока Александры Люш. Воспитала и всю жизнь хранила тайну рождения девочки. Сакович ведь даже Ахматовой, которая «затеяла» собственное «расследование», даже в 1965-м, перед смертью своей, не сказала, кто был матерью дочери Блока. Она и отцовство-то признала сквозь зубы — одним словом. «Блок?» — спросила её Ахматова. «Да», — сказала. «А кто мать?» — «Я не могу сказать…» И стало ясно, она поклялась Блоку сохранить тайну. Так вот нечто подобное, думаю, произошло и с сыном Нади.
Хочу быть правильно понятым. Мне, например, наплевать: есть ли дети у того же Фадеева, который «вычеркивал» Блока из истории? Но меня искренне интересуют дети, внуки и даже правнуки Блока, Цветаевой, Есенина — великих поэтов ХХ века. Не важно — законные они или нет. Ведь они дети тех, кого боготворит и будет боготворить Россия! Но, увы, блоковеды — молчат. А лучший из них, покойный уже Владимир Орлов, даже про питерскую дочь Блока, когда ее подвели знакомиться с ним, как-то неловко сказал Рецептеру, актеру. «Вы понимаете, — сказал, — я — в курсе. Но я написал книгу о Блоке, и в мою концепцию это не входит…» Такое вот литературоведение! Что же касается сына Нади, то ученые в один голос твердят: да, Цветаева верила в «сына Блока», но позже убедилась, это — миф. «Легенда о том, что сын Н.А.Нолле — сын Блока, бытовала в писательских кругах, — пишет Виктория Швейцер, — может быть, не совсем развеялась и до сих пор. Не буду говорить о спорности или достоверности ее — важно, что Цветаева ей верила, хотя несколько лет спустя почему-то изменила мнение».
Почему изменила — не ясно. Ирма Кудрова в только что вышедшем трехтомнике о Цветаевой, пишет категоричней: «Долго не хотела этому верить, но — пришлось». И опять ни слова о том — почему? Возможно, и Швейцер, и Кудрова — имеют в виду доклад Цветаевой «Моя встреча с Блоком», который она сделала в 1935 году? Но текст доклада, как известно, не сохранился. Может, сохранились косвенные свидетельства? Неведомо. Неоспоримо одно: Цветаева почему-то верила в сына Блока в Москве, где общалась с Нолле, а разуверилась — через много лет в эмиграции, когда всякое общение с Надей давно прекратилось. И неоспоримо самое простое объяснение — порядочность Нади Нолле, которая, если и дала клятву Блоку молчать о сыне, то держала ее смертельно. Причина? Просто Блок слишком знал «породу» толпы, черни, слишком изучил «добрые нравы» братьев-литераторов. Помните, он писал о «пошлых издевательствах» и «подмигиваниях». Знал, знал наперед, что если она объявит о своем родстве с ним, ее сначала высмеют, потом будут долго копаться в подробностях, потом потребуют «фактов» и, наконец, затеют такую свару, что в грязи, спорах, мутных сплетнях утопят не только ребенка и мать, но и самого поэта. Ведь если у Цветаевой брызнули слезы, когда она защищала «отцовство» Блока, то можно представить какой Крест (именно так, с большой буквы) ждал бы «виновницу» происшедшего…
Разумеется, мы всё узнаем! Мы прочтем все 147 писем поэта к Наде, мы дождемся, когда откроют в архиве не короткие (опубликованные) — полные воспоминания Нади Нолле о поэте. Так сказала мне покойная ныне Анна Наумовна. Ни она, кстати, ни дочь ее так и не подтвердили мне отцовства Блока. Молчали, улыбались, уходили от вопросов. «Это тайна не наша», говорили, не нам ее и раскрывать. Правда, одну историю, но — «знаковую», историю знакомства со своим мужем, Анна Наумовна рассказала.
Оказалось, что с будущим мужем она училась когда-то в Военном институте иностранных языков, и однажды ее, курсантку, за прогул «посадили под арест». А Саша, будущий муж, тоже курсант, но старшего курса, был в тот день дежурным по институту, и приказал привести к нему любого «арестованного», чтобы вымыть полы. Привели, представьте, ее. Когда она вошла в кабинет, он говорил с кем-то по телефону. Так и познакомились. «Но вы знаете, — не без кокетства улыбнулась Анна Наумовна, — первое, что я заметила, пока он говорил по телефону — его безумно красивые руки. Я смотрела только на них. — И, неожиданно рассмеявшись, добавила: — А Саша, оказывается, смотрел на мои ноги. Я как раз достала тогда очень красивые чулки телесного цвета… Вот и всё…»
Красивые руки, я это знал — у Блока были очень красивые руки. Не удивительно, что у сына его они были тоже красивы. Но только уйдя из дома Кулешовых, уже в метро, я вспомнил вдруг, что и Ахматова именно по рукам узнала внебрачного сына своего мужа — Николая Гумилева, юношу, которого до того никогда не видела. «У него, — сказала при встрече его матери, — Колины руки…» Ей, Ахматовой, этого, представьте, оказалось достаточно.
Но будет ли достаточно — нам!?
 …. Поклон!
…. Поклон!