Аполлон Александрович Григорьев
28 (16 по ст.стилю) июля 1822 года родился Аполлон Александрович Григорьев – русский поэт, писатель, переводчик, теоретик славянофильства, один из самых оригинальных литературных и театральных критиков второй половины XIX века, автор известных русских романсов.
При упоминании имени практически забытого ныне Аполлона Григорьева чаще всего просятся на язык известные всем слова «Цыганской венгерки»:
Две гитары, зазвенев,
Жалобно заныли
С детства памятный напев,
Старый друг мой, - ты ли?..
|
Парадоксально, но незамысловатый текст застольной песни – всё, что осталось в памяти современников и потомков из литературного наследия этого самобытного и когда-то весьма известного автора. Да ещё знакомое всем со школьной скамьи откровение о Пушкине, которого именно Григорьев впервые назвал «наше всё»…

Аполлон Григорьев
|
Между тем, во второй половине XIX века, когда жили и творили такие столпы отечественной литературы, как И.С. Тургенев, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, имя Аполлона Григорьева было настолько популярно, что стало нарицательным. Его критические статьи и публикации в «толстых» журналах вызывали острую полемику в литературных кругах того времени, а пьяные дебоши и беспорядочный образ жизни, который вёл литератор, лишь добавляли ему скандальной славы «маргинала» в глазах образованного общества. По воспоминаниям современников, Григорьев был яркой личностью, человеком, фанатически преданным искусству, неутомимым в нравственных и умственных исканиях, но, как это часто бывает с людьми духовно одарёнными, в житейских делах он проявлял крайнюю беспорядочность и беспомощность. Не сумел, подобно многим менее талантливым, но более удачливым собратьям по перу, проложить себе путь к славе, расталкивая локтями злопыхателей и конкурентов; не смог приспособиться, жить, «как все», хоть как-то упорядочив свой бесшабашный образ жизни. По предположению исследователей, некоторые черты реальной биографии Григорьева отразились в «Дворянском гнезде» И. С. Тургенева (семейная история Г.), психологический тип личности и бытовой облик — в образах Мити Карамазова («романтический безудерж» героя романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»), Феди Протасова («Живой труп» Л. Н. Толстого).
Его современники — рациональные реалисты-западники и чутко прислушивающиеся к стонам «сеятеля и хранителя» славянофилы — пытались ответить на извечный русский вопрос: что делать? Они стремились уловить во всём причинно-следственные связи, логику и смысл, противопоставить западному прогрессу спасительную патриархальность и народность. На этом фоне субъективно-идеалистические, полумистические «провидения» Григорьева казались непонятным, запутанным бредом, а его поиск «нового стиля» и романтические призывы к полной «органической» искренности в искусстве, вызывали откровенные насмешки.
Многие литературоведы признают, что воззрения А. Григорьева, изложенные в его критических статьях, оказали важнейшее влияние на творчество Ф.М. Достоевского, который был хорошо знаком с Аполлоном Александровичем и даже не раз помогал ему в трудные моменты жизни. Его идеи оказали влияние также на религиозную философию Н.Н. Страхова и Н.Я. Данилевского, а поэтика кабацкого разгула и «цыганщины» позднее нашла своё отражение в лирике А.Блока и С.Есенина.
Григорьев, будучи крупным мыслителем национального толка, опередил своё время более чем на половину столетия. При жизни он не был принят, понят и даже услышан большинством своих современников. Его эстетствующий романтизм, кабацкий разгул и постоянное существование «на грани» установленных норм и приличий в искусстве пришлись бы ко двору в эпоху декаданса начала XX века, но прежде должна была смениться либерально-демократическая парадигма мышления. На смену Некрасовым, Толстым, Короленкам должны были прийти Мережковский, Брюсов, Бальмонт, Блок, чтобы А. А. Григорьев занял своё законное место в истории русской критической мысли и признан предтечей новых литературно-философских течений.
Жизнь и творчество
Детство (1822–1838)
О своём происхождении и ранних годах жизни достаточно подробно сообщает сам Григорьев в своих начатых, но неоконченных автобиографических записках.
Дед Григорьева, Иван Григорьевич Григорьев происходил из «обер-офицерских детей». В 1777 году он приехал в «нагольном тулупе» в Москву из глухой провинции «составлять себе фортуну». И уже в начале 1790-х годов Иван Григорьев купил в Москве дом, а к 1803 году за усердный труд на различных чиновничьих должностях был произведен в надворные советники, удостоился получить от Его Императорского Величества табакерку и медаль третьего сорта, а позднее — потомственное дворянство. В Москве родился отец А.А. Григорьева, Александр Иванович (1788-1863) — воспитанник университетского благородного пансиона, «товарищ по воспитанию В.А.Жуковского и братьев Тургеневых».
Рождение самого Аполлона Григорьева сопровождалось драматическими обстоятельствами, которые наложили отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. Его отец страстно полюбил дочь крепостного кучера, Татьяну Андрееву. Аполлон родился за год до того, как, преодолев сопротивление родных, молодые обвенчались. С самого рождения над незаконнорожденным мальчиком висела угроза быть зачисленным в крепостные, поэтому перепуганные родители сразу отдали его в Императорский Московский воспитательный дом — старейшее благотворительное заведение, основанное ещё Екатериной Великой. Всех, кто попадал туда, автоматически записывали в мещанство. Мальчик пробыл в приюте недолго: сразу после венчания родителей его вернули домой, но Аполлон так и остался мещанином, пока не получил личного дворянства в 1850 году, по выслуге лет. Клеймо простолюдина и «байстрюка» не давало покоя Григорьеву на протяжении всей его юности.
25 ноября 1823 года у Григорьевых родился второй сын — Николай, умерший меньше чем через месяц, а родившаяся в январе 1827 года дочь Мария прожила лишь тринадцать недель. После смерти дочери Григорьевы переезжают в Замоскворечье («уединенный и странный уголок мира», по признанию А.Григорьева), «вскормившее» и «взлелеевшее» его. Александр Иванович поступил на службу в Московский магистрат, и хотя должность он занимал незначительную, семья жила безбедно. Но, как видно, пережитые потрясения не прошли даром, по крайней мере, для матери. Примерно раз в месяц она впадала в нервическое состояние: «глаза становились мутны и дики, желтые пятна выступали на нежном лице, появлялась на тонких губах зловещая улыбка». Через несколько дней Татьяна Андреевна приходила в себя. Она и сына любила как-то неистово, ласкала и холила, собственноручно расчесывала ему волосы, кутала. Словом, рос Полошенька — так по-домашнему звали Аполлона — настоящим барчуком, горничная Лукерья одевала и обувала его, пока он не стал тринадцатилетним недорослем. До семнадцати лет его одного не выпускали из дома.
С малых лет главной чертой характера Аполлона была чрезмерная чувствительность и впечатлительность. Он жил не рассудком и не здравым смыслом – все свои суждения Григорьев выносил на основании субъективного принятия или отвержения, никогда не опираясь на логику и объективность. Именно эта тотальная субъективность и является причиной непонимания Григорьева и современниками, и потомками.
Родители Аполлона, принадлежавшие к разным социальным слоям, очевидно, не были духовно близкими людьми. Частые ссоры, непонимание в семье, безразличие отца, его ленивые наставления сыну и беспричинные взрывы бешенства; мелочная, придирчивая, неотступная опёка неграмотной матери – вот атмосфера григорьевского дома. Пребывание мальчика рядом с родителями сопровождалось постоянными одёргиваниями, упреками за сделанные и несделанные шалости. Получилось так, что единственный сын «у семи нянек» оказался «без глазу». По мнению самого Григорьева, кроме неплохого домашнего образования и материальной заботы, в духовном плане родители ничего не дали ему, привив к тому же комплекс неполноценности, который подсознательно ощущался Аполлоном всю его недолгую жизнь.
Чувствуя себя лишённым родительского тепла, мальчик инстинктивно стремился к покровительственной поддержке других взрослых. Эту роль выполнили дворовые. При любом удобном случае Аполлон убегал в сарай или на кухню, где мог сидеть бесконечно, слушая истории, наблюдая за работой, и чувствуя, что здесь он может быть самим собой. В детстве его окружали и питали суеверия и предания дворовых. Мальчик долго был под впечатлением рассказов старого деда, дальнего родственника, живущего в мезонине их дома в Замоскворечье, который только и делал, что читал священные книги и рассказывал с полной верой истории о мертвецах и колдунах. Поэтому же Аполлона рано увлёк Гофман. Это фантастическое настроение было самим дорогим во всей его жизни. Он всегда стремился снова и снова испытать «сладко–мирительное, болезненно дразнящее настройство, эту чуткость к фантастическому, эту близость иного странного мира».
В людской барчук слушал не только сказки и песни, но и циничные разговоры с матерщиной, был свидетелем безалаберности и пьянства слуг. Кучер Василий, бывало, так напивался, что Григорьев-отец был вынужден сам править экипажем, да ещё придерживать пьяного, чтоб не свалился с козел. Слуга Иван не уступал кучеру. Нанятый для Полошеньки гувернер-француз долго крепился, да и тот запил и как-то раз свалился с лестницы, пересчитав все ступени. Григорьев-отец прокомментировал этот случай в комично-торжественном тоне: «Снисшел еси в преисподняя земли».
Будущий поэт часто слушал, как отец читал вслух своей неграмотной супруге старинные романы. Так состоялось приобщение Аполлона Григорьева к литературе. Вскоре он уже сам читал прозу и стихи, по-русски и по-французски, пробовал переводить и сочинять. А кроме того, научился играть на фортепьяно, позднее освоил гитару. После нескольких посещений театра с отцом Аполлон на всю жизнь полюбил сцену и стал глубоким ценителем драматического искусства. Несмотря на противоестественное состояние «мещанина во дворянстве», экзальтированность матери и уродливый домашний быт, детство мальчика, по сравнению с его будущей жизнью, прошло безмятежно.
Университет (1838 – 1844)
В августе 1838 года, минуя гимназию, Аполлон Григорьев успешно сдал вступительный экзамен и был принят слушателем на юридический факультет Московского университета. Разумеется, он хотел учиться литературе, но практичный отец настоял, чтобы сын поступал на юридический факультет. Учёба была для Аполлона единственным способом выделиться, избавиться от комплекса неполноценности перед сверстниками. Одни превосходили его талантом, как А.А. Фет или Я.П. Полонский, от чего он приходил в отчаяние. Другие – происхождением. Они обладали «дворянской честью» перед ним, представителем податного сословия, не студентом, а простым слушателем, не имеющим права на офицерский чин.
С другой стороны, Аполлон верил, что, став учёным, он выполнил бы сыновний долг, оправдав надежды родителей. Тем самым, он обрёл бы самостоятельность от их авторитета, в частности, от нравоучений отца, апеллирующего к своему пансионскому образованию. Быть успешным в науке значило для Григорьева быть на пути к счастью и свободе.
Уже на первом курсе он написал исследование на французском языке. Преподаватели даже не поверили, что это самостоятельная работа. Сам попечитель университета граф С.Г. Строганов вызвал Григорьева к себе и лично экзаменовал его. Убедившись в знаниях слушателя, граф заметил: «Вы заставляете слишком много говорить о себе, вам надо стушеваться». Природная одарённость Григорьева проявляется в университете настолько ярко, что это действует подавляюще на остальных студентов, нарушает нормальный ход учебного процесса. Молодой Григорьев подавал очень большие надежды.
В университете завязались близкие отношения с А.А. Фетом, Я.П. Полонским, С.М. Соловьевым и другими незаурядными молодыми людьми, сыгравшими впоследствии заметную роль в русской культуре. Студенты собирались в григорьевском доме на Малой Полянке, где с начала 1839 года квартировал также и А.А. Фет, читали и обсуждали труды немецких философов. Центром кружка Фет в воспоминаниях называл А. Григорьева. Надо сказать, что эти собрания могли плохо кончиться — трагические судьбы философа Чаадаева, поэта Полежаева, петрашевцев и многих других инакомыслящих в николаевскую эпоху были у всех на слуху. Тем более что юноши иногда отвлекались от философии и вместе сочиняли стихи, вовсе небезобидные. Но Бог миловал, собрания григорьевского кружка остались тайной для начальства и III Отделения.

Антонина Корш
|
В 1842 году Аполлон Григорьев был приглашен в дом доктора Фёдора Адамовича Корша. Там Аполлон увидел его дочь Антонину Корш и страстно влюбился в неё. Ей было девятнадцать лет, она была очень хороша собой: смуглая брюнетка с голубыми глазами. Антонина получила хорошее домашнее образование, много читала, музицировала. Стихи Григорьева тех лет — откровенный дневник его любви. Он то уверялся во взаимных чувствах Антонины и своей власти над нею («Над тобою мне тайная сила дана…»), даже подозревал в ней тщательно скрываемую страсть («Но доколе страданьем и страстью / Мы объяты безумно равно…»), то вдруг сознавал, что она его не понимает, что он ей чужой. В большой семье Коршей все, кроме возлюбленной, его раздражали, и всё же он каждый вечер приходил в этот дом. Часто становился замкнутым, скованным и сам признавался: «Я с каждым днем глупею и глупею до невыносимости…»
Вы рождены меня терзать -
И речью ласково-холодной,
И принужденностью свободной,
И тем, что трудно вас понять...
...И ничего, чего другие
Не скажут вам, мне не сказать.
|
В дом Коршей приходило много молодых людей, подающих надежды. И среди них появился молодой дворянин Константин Кавелин, тоже юрист, в будущем — один из лидеров русского либерализма. Рассудительный и несколько холодный, он держался свободно и естественно, словом, был светским человеком. Аполлон видел, что Антонина отдает предпочтение Кавелину, и его терзания усилились ещё и бешеной ревностью.
В июне 1842 года А.А. Григорьев окончил университет лучшим студентом юридического факультета. Он получил степень кандидата, диплом исключал его из мещанского сословия. Более того, блестящему выпускнику предложили место библиотекаря, и он с декабря 1842 года по август 1843 года заведовал университетской библиотекой, а в августе 1843 года большинством голосов был избран по конкурсу секретарём Совета Московского университета. Но очень скоро выяснилось, что Аполлон Григорьев совершенно не способен ни к научной, ни к методической работе. Говоря попросту, ему было свойственно типичное русское разгильдяйство. На библиотечном поприще он беспечно раздавал книги многочисленным друзьям и своей возлюбленной, разумеется, забывая их регистрировать, так что потом не знал, у кого их искать и как вернуть. На секретарском посту он не вёл протоколов, ненавидел бумажно-бюрократическую работу. К тому же непрактичный поэт уже успел наделать долгов. Словом, увяз, запутался и в личной жизни, и на службе.
В августе 1843 года А. Григорьев дебютировал как поэт в известном московском журнале «Москвитянин». Под псевдонимом А.Трисмегистов было опубликовано его стихотворение «Доброй ночи!». В этот период, как уже было сказано, Григорьев переживает глубокое увлечение Антониной Федоровной Корш, страдает и ревнует её ко всем. Наконец, Кавелин сообщил Григорьеву, что женится на Антонине. «Наш взгляд на семейную жизнь одинаков», — откровенничал счастливый избранник. «А я, — писал тогда же Григорьев, — я знаю, что я бы измучил ее любовью и ревностью…»
Несчастная любовь нашла отражение в лирике Григорьева 1840-х годов, а также в романтических повестях того периода («Комета», «Вы рождены меня терзать», «Две судьбы», «Прости», «Молитва» и др.). В 1843-1845 годах А.Григорьев писал особенно много. Любовной драмой объясняются и темы лирики поэта — роковая страсть, необузданность, стихийность чувств, любовь-борьба, любовь-страдание. Характерно для этого периода стихотворение «Комета», в котором хаос любовных переживаний сравнивается с космическими процессами. Об этих чувствах повествует и первое прозаическое произведение Григорьева в форме дневника «Листки из рукописи скитающегося софиста» (1844, опубликовано в 1917).
Потерпев неудачу в любви и тяготясь мелочной опёкой родителей, душевно опустошенный, отягощенный долгами, в стремлении начать новую жизнь, Григорьев в феврале 1844 года тайно бежал из родительского дома в Петербург, где у него не было ни близких, ни знакомых. С этого отъезда началась скитальческая жизнь Григорьева. Недаром свои автобиографические записки, к сожалению, неоконченные, он назвал «Мои литературные и нравственные скитальчества».
Петербург (1844–1847)
В Петербурге Григорьев работал сначала в Управе благочиния (июнь-декабрь 1844), а потом в департаменте Сената (декабрь 1844-июль 1845) – и отовсюду ушел: всякий строгий распорядок он переносил очень болезненно. Лучше всего ему было или в постели, или в кабаке. Григорьев искал утешения то в масонстве, то в фурьеризме, думал заняться литературной деятельностью, войти в западнический круг «Отечественных записок» и даже пытался сдать экзамен на магистра права. Но вся эта деятельность не могла заглушить ощущения бессмысленности происходящего. Григорьев был подавлен и смущён, его самолюбие оказалось жестоко уязвлено.
В конце концов Григорьев нашел себе приют у В.С. Межевича, редактора театрального журнала «Репертуар и Пантеон». Это был добрый и сострадательный человек. В августе 1845 года он поселил Григорьева у себя, буквально вытащив молодого человека из пьяного угара дешёвых трактиров. С тех пор и до конца 1846 года, Григорьев печатался в театральном журнале. Помимо невыразительных статей о театральной жизни («Об элементах драмы в одном провинциальном театре» –1845, «Роберт-Дьявол», «Гамлет в одном провинциальном театре» — 1846), Аполлон опубликовал в «Репертуаре и Пантеоне» несколько рассказов, выдержанных в традициях Байрона – скорбь и одиночество одаренной личности («Человек будущего», «Мое знакомство с Виталиным», «Один из многих», «Офелия»). В 1846 году он выпустил единственный прижизненный сборник стихов. Вошедшие в него произведения полностью отражали тот хаос, в котором находилась душа поэта. Здесь была и масонская лирика («Гимны»), и социальная сатира («Город»), и революционные настроения («Когда колокола торжественно звучат», «Нет, не рожден я биться лбом»).
Межевич оказался и хорошим психотерапевтом. За долгими беседами вечерами ему удалось убедить молодого человека в том, что тот должен отказаться от прежних идеалов и амбиций, поскольку они абсолютно не отвечают его природе. Ему надо отдаться на волю Божью и ждать, куда вынесет река жизни.
В 1847 году Григорьев вернулся в Москву с твёрдым намерением тихо и скромно прожить свою жизнь. Он устроился учителем законоведения в Александрийском сиротском институте, но вскоре совершил очень странный поступок: явился в дом Коршей и сделал предложение младшей сестре Антонины – Лидии, затем женился на ней. Лидия не могла сравниться с Антониной ни красотой, ни умом, ни начитанностью. Она немножко косила, слегка заикалась, в общем, по словам одного из друзей семьи, была «хуже всех сестер — глупа, с претензиями и заика». Этот брак сделал её несчастной, а Григорьева — ещё несчастнее, чем прежде. Но, видно, поэт необъяснимым образом нуждался в этом новом страдании, словно хотел «клин клином» вышибить из сердца старую боль. Раздоры в молодой семье начались почти сразу. Лидия Фёдоровна не умела вести хозяйство и вообще не была создана для семейной жизни, а муж и подавно. Впоследствии Аполлон Григорьев обвинял жену в пьянстве и разврате, увы, не без оснований. Но ведь и сам он не был примером добродетели: уходил в загулы на месяцы. Однако мужьям такие вольности прощались, а жёнам — нет. Когда появились дети, двое сыновей, Григорьев подозревал, что они «не его». В конце концов, Григорьев оставил семью, иногда присылал деньги, впрочем, не часто, потому что сам вечно был в долгах. Один раз супруги воссоединились и жили вместе несколько лет, но потом опять расстались, уже навсегда. Григорьев вновь попал в полосу разочарований и душевных мук. В это время он создал поэтический цикл «Дневник любви и молитвы» — стихи о безответной любви к прекрасной незнакомке.
«Молодая редакция» «Москвитянина» (1850–1857)
В 1848-1857 годах А.А. Григорьев преподавал законоведение в разных учебных заведениях, не оставляя творчества и сотрудничества с журналами. Он деятельно сотрудничал в «Московском городском листке», благодаря знакомству с А.Д. Галаховым завязал сношения с журналом «Отечественные записки», в котором выступал в качестве театрального и литературного критика.
В конце 1850 года Аполлон волей случая познакомился с молодым А.Н. Островским и его компанией. Это была молодежь кабаков, веселая, бесшабашная, добродушная и задушевная. Это был тот мир, те отношения и тот дух, который прочно ассоциировался с лучшими воспоминаниями детства, с тем временем, что Аполлон провёл среди дворовых людей своего батюшки. Участниками кружка были Б.А. Алмазов, Е.Н. Эдельсон и Т.И. Филиппов. Они почти все принадлежали к мелкому дворянству, которое выслужили их отцы и деды. Их воспитание не приучило их к светской развязности: в «приличном обществе» они были застенчивы и неловки, но в кругу близких становились разговорчивы, остроумны и интересны. «Особая умилительная простота, – вспоминали о кружке А.Н. Островского, – во взаимных отношениях господствовала здесь в полной силе». В этом обществе Григорьев обрел себя и называл, позднее, в письмах эту жизнь жизнью «по душе».
«Тут были, — как писал современник, — и провинциальные актеры, и купцы, и мелкие чиновники с распухшими физиономиями – и весь этот мелкий сброд, купно с литераторами, предавался колоссальному, чудовищному пьянству… Пьянство соединяло всех, пьянством щеголяли и гордились». Сами друзья Островского рассматривали свой образ жизни как сознательное противостояние формальности и холодности отношений аристократического общества. Они прекрасно понимали, что это n’est pas comme il faut – и в этом был весь их пафос, их гражданская позиция. Их амплуа — интеллектуальное хулиганство, то есть, всё, «что называется молодость, любовь, безумие и безобразие». Монологи из Шекспира, Гёте и Шиллера перемежались то нецензурными частушками, то чтением пьес Островского, а потом начинались споры до драки о Пушкине и Гоголе (кто же все-таки первое светило русской литературы?).
23 ноября 1857 года, в день именин Островского, Григорьев писал Эдельсону:
«Помнишь две годовщины этого дня одна — когда читалась «Бедность не порок» и ты блевал на верху, и когда читалась «Не так живи, как хочется» и ты блевал внизу в кабинете?..»
Когда дома не сиделось, они прямой дорогой отправлялись в кабак, где «мертвецки пьяные, но чистые сердцем, целовались и пили с фабричными».
Так, сами собой, члены кружка оказались в лагере славянофилов, упрекающих Запад за бездуховность и превозносящих русский национальный характер. Но это было не дворянское славянофильство А.С. Хомякова, И.В. Киреевского и К.С. Аксакова, а разночинное. Старшие славянофилы противопоставили светской культуре крестьянина, проникнутого православием. Григорьев же считал крестьян существами забитыми и ограниченными, а официальное православие — догматическим и излишне строгим.
Попытку донести свои взгляды до широкой публики товарищи предприняли в журнале профессора Московского университета М.П. Погодина «Москвитянин». В 1851 году они образовали в журнале так называемую «молодую редакцию» под эгидой самого Григорьева, занимавшуюся литературой. Старая редакция, возглавляемая М.П. Погодиным, занималась наукой и политикой.
Григорьев стал главным теоретиком «Москвитянина». В завязавшейся борьбе с петербургскими журналами оружие противников чаще всего направлялось именно против него. С первых же номеров Григорьев начинает кампанию против байронического идеала светского поведения. В его представлении люди «хорошего тона» слишком самодовольны, расчетливы и рациональны: личная выгода и унижение ближнего – обычная форма их общения. Их отношения – ложь перед обществом и перед собой. Лжи Григорьев противопоставляет непосредственность, как следование голосу своего сердца (оно ведь не умеет лгать), а самодовольству – демократизм, то есть абсолютную терпимость к людям.

Аполлон Григорьев
|
Борьба эта Григорьевым велась на принципиальной почве, но ему обыкновенно отвечали на почве насмешек, как потому, что петербургская критика, в промежуток между Белинским и Чернышевским, не могла выставить людей способных к идейному спору, так и потому, что Григорьев своими преувеличениями и странностями сам давал повод к насмешкам. Особенные глумления вызывали его ни с чем несообразные восторги Островским, который был для него не просто талантливый писатель, а «глашатай правды новой» и которого он комментировал не только статьями, но и стихами, и при том нарочито-плохими. Со своими туманнейшими и запутаннейшими рассуждениями об «органическом» методе и других абстракциях, он до такой степени был не ко двору в эпоху «соблазнительной ясности» задач и стремлений, что уже над ним и смеяться перестали, перестали даже и читать его. Большой поклонник таланта Григорьева Ф.М. Достоевский с негодованием заметивший, что статьи Григорьева прямо не разрезаются, дружески предложил ему подписываться псевдонимом, чтобы таким контрабандным путём привлечь внимание читателей.
За пять лет работы в «Москвитянине» с 1851 по 1856 годы Григорьев написал более 80 статей (среди них «Русская литература в 1851 году», «Современные лирики, романисты и драматурги», 1852; «Русская изящная литература в 1852 году», 1853; «Проспер Мериме», «Искусство и правда», 1854; «О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене», «Замечания об отношении современной критики к искусству», 1855; «О правде и искренности в искусстве», 1856 и др.). Но идеи «молодой редакции» в обществе остались практически незамеченными. К тому же М.П. Погодин был крайне скуп на гонорары. Из-за денег редакция в 1856 году распалась, журнал перестал существовать.
Леонида Визард и «Цыганская венгерка»
24 мая 1850 года А.А. Григорьев назначается учителем законоведения в Московский Воспитательный дом, в то самое богоугодное заведение, куда его поместили родители сразу после рождения. Каким образом Аполлону Александровичу удавалось совмещать свои кабацкие загулы с педагогической деятельностью – загадка для всех его биографов. Тем не менее, среди коллег в Воспитательном доме он пользовался уважением и был радушно принят в семье надзирателя и учителя французского языка Якова Ивановича Визарда. Якову Ивановичу по должности полагалась казенная квартира при Воспитательном доме, куда преподаватели часто приходили. Кроме того, жена Визарда держала частный пансион в наемном доме на Большой Ордынке. Там часто собирались друзья и родственники. Скоро и Аполлон Григорьев стал постоянным гостем на Ордынке. Там он и встретил свою новую любовь — совсем юную Леониду Визард. Полюбил страстно и безрассудно.
К сожалению, не сохранилось портретов Леониды Яковлевны, но её младшая сестра довольно подробно описала её: «Леонида была замечательно изящна, хорошенькая, очень умна, талантлива, превосходная музыкантша. Прекрасные, с синеватым оттенком, как у цыганки, волосы и голубые большие прекрасные глаза…»
Не удивительно, что Григорьев, хоть и был на 15 лет старше, увлекся ею, но удивительно, что он и не старался скрыть своего обожания. Любовь его была так же идеальна, как когда–то любовь к Антонине Корш. Он даже вёл себя схоже. «В её обществе он бывал всегда трезв и изображал из себя умного, несколько разочарованного молодого человека, а в мужской компании являлся в своем настоящем виде – кутящим студентом», — вспоминал один из современников Григорьева.
Ум у Леониды был очень живой, но характер сдержанный и осторожный. Аполлон, конечно, не встретил взаимности. Вряд ли его возлюбленная подозревала, какие чувства она ему внушает, но Григорьев постоянно терзался. Он понимал, что из-за семейного положения не имеет никаких шансов, и, тем не менее, не мог задушить эту горькую любовь. И тут, как 10 лет назад, вновь явился соперник — офицер в отставке, дворянин, пензенский помещик Михаил Владыкин. Театральный завсегдатай и драматург-любитель, он проводил зиму в Москве, здесь и познакомился с Леонидой Яковлевной. Молодые люди полюбили друг друга, и вскоре состоялась помолвка. Аполлон Григорьев бешено ревновал, долго не мог поверить, что всё кончено. А когда поверил, с головой ушёл в работу. Поэт собрал новые стихотворения, присоединил к ним несколько изменённые стихи «коршевского» периода и составил большой цикл из 18 стихотворений под названием «Борьба». Кульминацией «Борьбы» стали всем известные стихотворения «О, говори хоть ты со мной…» и «Цыганская венгерка», которые А.А.Блок назвал «перлами русской лирики».
О, говори хоть ты со мной,
Подруга семиструнная!
Душа полна такой тоской,
А ночь такая лунная!
…
Я от зари и до зари
Тоскую, мучусь, сетую...
Допой же мне - договори
Ты песню недопетую.
|
Когда Григорьев прочитал «Цыганскую венгерку» своему другу, композитору Ивану Васильеву, тот сразу проникся чувствами поэта. Он обработал мелодию, сочинил знаменитые гитарные вариации. Так григорьевская «венгерка» стала песней. Очень скоро её начали исполнять цыганские хоры. Во вторую часть песни вошли строфы из стихотворения «О, говори хоть ты со мной…» Кто-то досочинил припев «Эх, раз, ещё раз!..», которого не было в стихах Григорьева. На основе григорьевской «венгерки» возник цыганский танец, который мы называем попросту «Цыганочкой». И в XX веке было создано немало вариантов этой песни, самые знаменитые – «Две гитары» Шарля Азнавура и «Моя цыганская» Владимира Высоцкого:
Я по полю, вдоль реки,
Света - тьма, нет бога!
А в чистом поле васильки,
Дальняя дорога.
…
И ни церковь, ни кабак -
Ничего не свято!
Нет, ребята, все не так,
Все не так, ребята!
|
Григорьев прославился при жизни не только «Цыганской венгеркой». Его статья «О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене» впервые заявила современникам о рождении национального русского театра. Другая знаменитая его статья «Взгляд на русскую литературу после смерти Пушкина» впервые определила значение национального гения не только в прошедшем времени, но и в настоящем и в будущем. Как поэт Григорьев стоит в литературе того периода наравне со своими друзьями Полонским, Огаревым и Фетом. Его лирический цикл «Борьба» сравним с творениями Тютчева, а в художественном плане намного превосходит лирику Некрасова:
К чему они, к чему свиданья эти?
Бессонницы – расплата мне за них!
А между тем, как зверь, попавший в сети,
Я тщетно злюсь на крепость уз своих.
Я к ним привык, к мучительным свиданьям…
Я опиум готов, как турок, пить,
Чтоб муку их в душе своей продлить,
Чтоб дольше жить живым воспоминаньем…
Чтоб грезить ночь и целый день бродить
В чаду мечты со сладким обаяньем
Задумчиво опущенных очей!
Мне жизнь темна без света их лучей
(«Я вас люблю, что делать – виноват!»)
|
Итак, Григорьев потерпел очередное фиаско в любви. Леонида Яковлевна Владыкина-Визард впоследствии получила в Швейцарии степень доктора медицины и была одной из первых женщин-врачей в России. Законную супругу Григорьева Лидию Фёдоровну поддерживала семья Коршей, учёбу сыновей оплачивал Константин Кавелин, тот самый счастливый соперник… Сама Лидия Фёдоровна вынуждена была пойти в гувернантки. И как-то раз, на беду, в подпитии она заснула с зажженной папиросой и не проснулась. Сердце поэта так и не согрелось ответной любовью…
Последние годы (1857-1864)
Закрытие «Москвитянина» было тяжелой травмой для Григорьева. Не найдя достойного занятия на родине, в июле 1857 года он уехал во Флоренцию, устроившись учителем малолетнего графа И.Ю. Трубецкого.
Поездка через Европу произвела на литератора колоссальное впечатление. Сам Григорьев писал:
«Я истерически хохотал над пошлостью Берлина и немцев вообще, над их аффектированной наивностью и наивной аффектацией, честной глупостью и глупой честностью; плакал на Пражском мосту в виду Пражского Кремля, плевал на Вену и австрийцев, понося их разными позорными ругательствами и на всяком шаге из какого–то глупого удальства подвергая себя опасностям быть слышимым их шпионами; одурел (буквально одурел) в Венеции, два дня в которой до сих пор кажутся мне каким–то волшебным фантастическим сном…»
Впервые в жизни этот человек получил возможность посмотреть на европейское искусство вживую, а не на черно-белых литографиях в альбомах и журналах. Григорьев был потрясён. Он разве что не жил во флорентийских галереях – Уффицци и Питти.
Однако через год у поэта случился новый приступ депрессии. Он мучался тоской, разочарованием, одиночеством. «Расстройство нервов, – рассказывал он о зимнем карнавале во Флоренции (1858), – дошло у меня до того, что я готов был плакать. Когда на площади Санта Кроче показались два–три экипажа с масками, да пробежала с неистовым криком толпа мальчишек за каким–то арлекином, когда потом целые улицы покрылись масками и экипажами до самого Собора – мне все это показалось каким–то мизерным и вовсе не поэтическим. У меня рисовалась наша Масленица – наш добрый, умный и широкий народ с загулами, запоями, колоссальным распутством… Во всем этом ужасном безобразии даровитого и могучего, свежего племени – гораздо больше живого и увлекающего, чем в последних судорогах отжившей жизни (Запада). Мне представлялись летние монастырские праздники моей великой, поэтической и вместе простодушной Москвы, ее крестные ходы и все, чему я отдавался всегда со всем увлечением моего мужицкого сердца. Я углубился в те улицы, где никого не было, и долго ходил со своими сокровищами, со своими воспоминаниями. Когда я воротился в свою одинокую, холодную, мраморную комнату, когда я почувствовал свое ужасное одиночество – я рыдал целый час, как женщина, до истерики».
В Европе Аполлон снова начал пить. Как-то в Париже он уж совсем неприлично напился на званом обеде, чего княгиня Трубецкая простить не смогла и дала ему расчёт. Григорьев ушел в долгий запой. Встретивший его в Париже Я. Полонский рассказывал, будто Григорьев говорил ему, что хочет напиться «до адской девы». В начале октября Аполлон без денег и без теплой одежды приехал в Берлин. Продав последнее – ящик с книгами и гравюрами, собранными в Италии, он ещё некоторое время мыкается в столице Пруссии. «Каинскую тоску одиночества, – вспоминал он, – я испытывал. Чтобы заглушить её, я жёг коньяк и пил до утра, пил один и не мог напиться!» И только в конце октября 1858 года, благодаря помощи графа Г.А. Кушелева-Безбородко, издателя журнала «Русского слово», неудавшийся воспитатель смог вернуться на родину.
Граф предложил Григорьеву сотрудничество, и весь 1859 год критик писал в «Русском слове», пытаясь передать публике сокровенные мысли и образы, обретённые им во время пребывания за границей. Всего было написано 22 статьи (главные из них «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина», «Тургенев и его деятельность, по поводу романа «Дворянское гнездо», «Несколько слов о законах и терминах органической критики»). Речь, конечно, во всех из них шла о Красоте – таинственной силе, способной перевернуть мир. Но в то время, когда готовилась отмена крепостного права, обществу не было никакого дела до рассуждений об эстетике. Статьи Григорьева сильно правили ничего не смыслившие в литературе и искусстве редакторы, и он ушел из журнала. В 1860-х годах Григорьев писал в разных изданиях, и даже редактировал никому не нужный «Драматический сборник».
В начале 1859 года Аполлон Григорьев сближается с М.Ф. Дубровской, по его собственным словам, «жрицей любви», взятой им из притона. Позднее она стала его гражданской женой, но счастья в жизни Григорьев так и не нашёл. Женщина с искалеченной душой и мужчина с израненным сердцем — почему они сошлись, кто знает? Скитания и финансовые проблемы продолжались. В своей жизни Григорьев словно испытывал все ипостаси человеческой личности: был мистиком и атеистом, масоном и славянофилом, добрым товарищем и непримиримым врагом-полемистом, нравственным человеком и запойным пьяницей. Все эти крайности в конце концов сломили его. В январе 1861 года в Петербурге он провёл почти месяц в долговой тюрьме. Выйдя из неё, Григорьев принимает эпизодическое участие в журнале А.П. Милюкова «Светоч», но уже в конце марта бросает эту работу и предпринимает последнюю попытку переменить жизнь. Он выспрашивает себе место учителя русского языка и словесности в Оренбургском кадетском корпусе. В Оренбург А.А. Григорьев приехал 9 июня 1861 года вместе с М.Ф. Дубровской, с увлечением взялся за дело, но быстро остыл, и на новом месте не задержался. Эта поездка лишь усугубила тяжелое душевное состояние поэта, тем более что произошел очередной разрыв с женой — М.Ф. Дубровской. Григорьев так безалаберно вёл свои финансовые дела, что в доме порой нечего было есть, не было дров и других необходимых вещей. Когда у супругов родился ребёнок, в комнате стоял холод, у матери пропало молоко. Младенец умер.Отцу пришлось пережить, как он говорил потом, «некрасовскую ночь» (вспомним сюжет стихотворения «Еду ли ночью по улице тёмной…»)
«Странствия», «скитальчества» — ключевые понятия в судьбе и творчестве Аполлона Григорьева. Какая-то роковая неприкаянность была его вечной спутницей. В Москве, в Петербурге, в Италии, в Сибири — он нигде не укоренился, кочевал по съемным квартирам, убегая от бед и кредиторов. Но они настигали его. Григорьев то сорил деньгами, словно ухарь-купец, то сидел в долговой яме. Порою пил, и пил изрядно. И сам того не скрывал:
Однако знобко... Сердца боли
Как будто стихли... Водки что ли?..
|
Григорьев и Достоевский
С января 1861 года Григорьев начал работать в журнале братьев Достоевских «Время». Участники издания называли себя почвенниками – представителями разночинного консерватизма.

Федор Михайлович Достоевский
|
Они критиковали рационалистическую философию, выступали против западнического либерализма и левого разночинного радикализма, ратовали за самобытный исторический путь России, считали, что начинать общественные преобразования можно только тогда, когда дворянство, воспитанное по западным меркам, сможет понять и принять картину мира простого народа. Почвенники полностью отвергали всякие насильственные методы обеспечения прогресса и бились за христианские идеалы.
В редакции «Времени» Григорьев нашел людей, которые, не отмахнулись от него, как от умствующего пьяницы и неудачника. Михаил и Фёдор Достоевские приняли его, как равного, и дали писать так, как писалось. Основные критические статьи, опубликованные в журнале: «Западничество в русской литературе», «Явления современной литературы, пропущенные критикой», «Белинский и отрицательный взгляд в литературе» — были замечены и вызвали бурные дискуссии в образованной среде. Аполлон Григорьев, пусть ненадолго, стал генератором идей и душой журнала. Именно он заронил в душу Фёдора Михайловича две определяющие идеи – о том, что «красота спасет мир», и о том, что ни западники, ни славянофилы не смогли понять сущность русского народа. Народ не туп («западники»), но и не свят («славянофилы» и «толстовцы»), его не надо вести силой по дороге западного прогресса, но и не надо умиляться его патриархальным пережиткам.

Михаил Михайлович Достоевский
|
Русский народ двуедин («всепримиряющ» у Достоевского) – он может принять западную культуру без отречения от собственной – это было твердым убеждением Аполлона Григорьева, убеждением, подтверждённым личным опытом. И был ещё человек, подтверждающий в глазах Григорьева правильность этой мысли – это Пушкин. В нем было всё лучшее от Запада и всё лучшее от России. Именно поэтому «Пушкин – наше все». И об этом скажет Достоевский в своей знаменитой «Пушкинской речи» в 1880 году.
После запрещения журнала «Время», Григорьев, по поручению издателя Ф.Т. Стелловского, редактирует еженедельный журнал «Якорь». Он редактировал газету и писал театральные рецензии, неожиданно имевшие большой успех, благодаря тому одушевлению, которое Григорьев внёс в репортёрскую рутину и сушь театральных заметок. Игру актёров он разбирал с такою же тщательностью и с таким же страстным пафосом, с каким относился к явлениям остальных искусств. При этом он, кроме тонкого вкуса, проявлял большое знакомство с немецкими и французскими теоретиками сценического искусства.
С января 1864 года Аполлон Григорьев вновь сотрудничает с братьями Достоевскими — в их новом журнале «Эпоха». Но везде Григорьев трудится с перерывами, избегая оказаться в какой-нибудь литературной партии, стремясь служить только искусству как «первейшему органу выражения мысли». Для Григорьева-критика и Григорьева-поэта характерен глубокий идеалистический романтизм и полное отсутствие желания отстаивать идею, которую уже подхватила и понесла «толпа». Идея, которая превращается в теорию или учение — есть нечто невыносимое для подлинного романтика.
И его разрыв с Достоевскими случился именно на этой почве: Михаил и Фёдор Михайловичи на страницах журнала пытались бороться, противопоставлять, проповедовать, создавать учение. Григорьев же был лишь генератором идей, обоснование которых порой бросал на полуслове – потому что наскучило…
Финал
К сожалению, главной бытовой проблемой Аполлона Григорьева всю жизнь была его безудержная любовь к мотовству и цыганским песнопениям при хроническом отсутствии денег. Всё его состояние давно было растрачено, литературная деятельность и фрагментарная служба (то там, то здесь) не приносили дохода. Как и подобает истинному поэту, Григорьев прозорливо предчувствовал свою судьбу, делая в дневнике соответствующие записи: «Дела мои по службе идут плохо — и странно! Чем хуже делается, тем больше предаюсь я безумной беспечности… Долги мои растут страшно и безнадежно». Другая запись гласила: «Долги растут, растут и растут… На все это я смотрю с беспечностью фаталиста». Знавшие его люди отмечали, что в последние годы Григорьев стал каким-то потерянным и равнодушным: это был надломленный человек, всегда находящийся под воздействием алкоголя. Правда, в конце жизни он начал писать интереснейшие воспоминания, но успел рассказать только о детстве.
В июне 1864 года в Санкт-Петербурге Аполлон Григорьев во второй раз на месяц угодил в долговую тюрьму. В письме на волю он жаловался, что не может работать: «Не говорю уже о непереносной пище и недостатках в табаке и чае — задолжавши кругом, можно ли что-либо думать?..» В конце августа история повторилась вновь. 21 сентября его выкупила на свободу богатая генеральская жена А.И. Бибикова, бесталанная писательница, которой Григорьев обещал отредактировать какие-то её сочинения. Окончательно опустошённый душевными терзаниями, Аполлон Григорьев прожил на свободе всего четыре дня. 25 сентября (7 октября) 1864 года, в возрасте сорока двух лет, он умер от апоплексического удара (так тогда именовали инсульт). Смерть наступила мгновенно, в одночасье, он умер буквально с гитарой в руках, не успев взять очередного аккорда.
Аполлона Григорьева похоронили 28 сентября на Митрофаньевском кладбище Санкт-Петербурга. На проводах были Ф.М.Достоевский, Н.Н.Страхов, ещё несколько знакомых литераторов и артистов. И большая группа странных незнакомцев в обносках — соседи Григорьева по долговой тюрьме. 23 августа 1934 года, когда создавали мемориальное кладбище, прах Аполлона Григорьева перенесли на Литераторские мостки Волковского кладбища.
Память
Посмертная память об Аполлоне Григорьеве XIX веке закреплялась очень слабо.
Вдова Григорьева М.Ф.Дубровская некоторое время пыталась спекулировать его именем, выпрашивая деньги у Н.Страхова и Ф.М.Достоевского. Судьбы сыновей от первого брака, которых сам Аполлон Александрович своими не считал, также сложились трагически: старший Пётр спился и умер в довольно раннем возрасте, младший Александр, благодаря участию К.Д. Кавелина (мужа тётки), окончил гимназию, служил в Министерстве финансов, занимался литературной деятельностью. Но славы ему это занятие не принесло: природа в полной мере «отдохнула» на детях Григорьева. Уровень сочинений Александра был более чем третьестепенный. В конце концов он сошёл с ума и скончался в больнице в 1898 году, не дожив до своего пятидесятилетия.
Из многочисленных друзей Аполлона Григорьева только Н.Н.Страхов написал краткие очерки-комментарии к публикуемым письмам друга. Ни один из университетских приятелей, а также членов «молодой редакции» «Москвитянина» не оставил мемуаров. Особенно досадно, что ничего не написал о Григорьеве А.Н. Островский. Он лишь сетовал в частной беседе (запись М.И. Семевского от 17 ноября 1879 года), что так мало освещён в печати облик его товарища: «Что у нас путного сказано об Аполлоне Григорьеве? А этот человек был весьма замечательный. Если кто знал его превосходно и мог бы о нем сказать вполне верное слово, то это именно я. Прочтите, например, Страхова. Ну что он написал об Аполлоне Григорьеве? Ни малейшего понимания чутья этого человека».
Увы! Даже после таких заявлений великий драматург не дал себе труда закрепить на бумаге «верного слова» о своём друге и современнике.
Страхов знал Григорьева, конечно, не так хорошо, как Островский, но он первым опубликовал письма друга, оставил воспоминания, а главное, — приступил к изданию 4-х томного собрания сочинений. Личных средств ему хватило лишь на издание первого тома (С.-Пб., 1876). Страхов надеялся, что выручка от продажи книги позволит продолжить печатание, но время было беспамятное, тревожное. В эпоху народовольческого террора и господства в литературе радикально-революционных идей было не до Аполлона Григорьева. Страхову пришлось расстаться с надеждой завершить издание. Впоследствии он отдал все свои материалы какому-то крупному издателю (возможно, А.С. Суворину), который потом якобы потерял их, а внуку писателя — В.А. Григорьеву, пожелавшему продолжить издание, заявил, что вообще никаких материалов не получал. Возможно, он лукавил, надеясь, попридержав подготовленные тома, издать их после 1914 года (по тогдашним правилам наследники имели право 50 посмертных лет получать гонорары за издание трудов своего покойного родственника, а потом лишались этого права).
Полузабытое имя Григорьева возродил лишь XX век. 50-летие со дня его кончины было отмечено обилием биографических и литературоведческих статей. В 1915— 1916 годах В.Ф. Саводник издал 14 книг «Собрания сочинений Аполлона Григорьева». Это были, конечно, не толстые книги, а фактически брошюры, в каждой — по одной статье или циклу статей Григорьева. Редакция «Универсальной библиотеки» массовым тиражом издавала повести и воспоминания (тоже в 1915—1916 годах). Александр Блок, много лет занимавшийся творчеством Аполлона Григорьева не только как любящий его поэт, но и как первоклассный литературовед, издал в 1916 году том «Стихотворений» (почти полное их собрание).
В революционный 1917 год В.Н. Княжнин выпустил замечательную книгу «Аполлон Александрович Григорьев. Материалы для биографии», где впервые опубликовал — по тогдашним возможностям — все известные составителю письма писателя. Тогда же B.C. Спиридонов начал подготовку фундаментального «Собрания сочинений и писем» А. А. Григорьева в 12 (!) томах. Но, как и Страхову, ему удалось издать в 1918 году лишь первый том: условия Гражданской войны и последующей разрухи никак не способствовали продолжению. Укрепившаяся советская власть тоже не жаловала идеалиста и консерватора. Каким-то чудом эсер и культуролог Р.В. Иванов-Разумник, в небольшом интервале между арестами, подготовил и издал в 1930 году том «Воспоминаний» — самого Аполлона Григорьева и о нём.
В Малой серии «Библиотеки поэта» дважды, в 1937-м и 1966 году, были изданы избранные поэтические произведения Григорьева. В хрущевскую оттепель П.П. Громов и Б.О. Костелянец издали «Избранные произведения» в Большой серии (1959) — это почти полное собрание стихотворных текстов литератора.
Значительно труднее обстояло дело с прозой и критикой. Исследователю творчества А.Григорьева филологу Б.Ф.Егорову потребовалось около 10 лет мучительного «пробивания» в издательстве «Художественная литература» тома «Литературная критика», который все-таки вышел в 1967 году. Затем были изданы «Воспоминания» в академической серии «Литературные памятники» (1980), сборник «Эстетика и критика» в серии «История эстетики в памятниках и документах» (1980), «Театральная критика» (1985). В эпоху «перестройки» стали активно переиздаваться стихотворения, поэмы, критические работы А.Григорьева; в рубрике «ЖЗЛ» вышла книга специалиста по XIX веку В.Ф.Егорова, полностью посвящённая биографии Аполлона Александровича.
Сегодня великое историко-литературное значение творчества А. Григорьева единогласно признаётся и российскими, и зарубежными литературоведами и историками. Активно изучаются, читаются, цитируются его письма и литературно-критические статьи, участились диссертации о нём, было несколько популярных телепередач о жизни и творчестве, группа московских критиков учредила недавно литературную премию имени Аполлона Григорьева.
И это справедливо. Исследователи и историки литературы вынуждены признать, что мы, люди начала XXI века, смотрим на русскую классическую литературу XIX столетия его глазами! И наше восприятие этой всё более удаляющейся эпохи по-прежнему эволюционирует в направлении к Аполлону Григорьеву. Современная литературная критика, несмотря на все её успехи и неудачи, ещё только пытается дорасти до того уровня, который задал в своих произведениях человек, умерший полтора столетия назад.
Елена Широкова
При подготовке статьи использованы материалы:
-
Блок А.А. Судьба Аполлона Григорьева//Григорьев А. Стихи Аполлона Григорьева. М.2003 (переиздание 1915 года).
-
Григорьев А.А. Мои литературные и нравственные скитальчества // Григорьев А.А. Полное собрание сочинений и писем. М.,1918. Т.1.
-
Егоров Б.Ф. Аполлон Григорьев. — М.: Мол. Гвардия, 2000.
-
Калягин Н. Последний романтик. Творческая судьба Аполлона Григорьева
-
Вокруг света
-
сайт Общества некрополистов
|



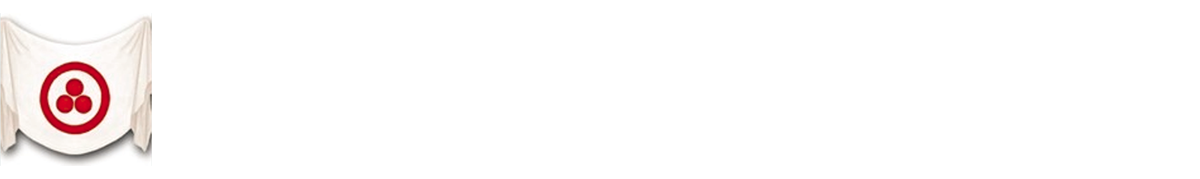





Дополнение:
https://fb.ru/article/231893/russkiy-poet-apollon-grigorev-biografiya-tvorchestvo
*
https://polit.ru/news/2022/07/28/grigoriev/ — БИОГРАФИЯ. Чем знаменит. Интересные факты
*
https://citaty.info/man/apollon-aleksandrovich-grigorev
*
https://www.inpearls.ru/author/14011 — аполлон григорьев/Жемчужины мысли
Доброе утро, молодой друг!
Вдумчивое чтение русской и мировой классики должно быть на первом месте в жизни: это и овладение литературным языком, и изучение эпохи и судеб, психологии людей, это и обучение правильному мышлению.
Эпоха невежества и упадка не продлится долго. Вашему поколению строить Новый мир Культуры, культуры человеческих отношений прежде всего. Добро! ️