
**************************************************
khodasevich_sobranie_sochineny_v_chetyrekh_tomakh_tom1_1996__ocr — 514 стр. в pdf
****************************************************
Лучшие стихи Владислава Ходасевича
Владислав Ходасевич — русский поэт, критик, мемуарист, литературовед. Представляем вашему вниманию лучшие стихи Владислава Ходасевича.
Люблю людей, люблю природу
Люблю людей, люблю природу,
Но не люблю ходить гулять,
И твердо знаю, что народу
Моих творений не понять.
Довольный малым, созерцаю
То, что дает нещедрый рок:
Вяз, прислонившийся к сараю,
Покрытый лесом бугорок…
Ни грубой славы, ни гонений
От современников не жду,
Но сам стригу кусты сирени
Вокруг террасы и в саду.
15-16 июня 1921 года
*****
Перед зеркалом
Я, я, я. Что за дикое слово!
Неужели вон тот — это я?
Разве мама любила такого,
Желто-серого, полуседого
И всезнающего, как змея?
Разве мальчик, в Останкине летом
Танцевавший на дачных балах, —
Это я, тот, кто каждым ответом
Желторотым внушает поэтам
Отвращение, злобу и страх?
Разве тот, кто в полночные споры
Всю мальчишечью вкладывал прыть, —
Это я, тот же самый, который
На трагические разговоры
Научился молчать и шутить?
Впрочем — так и всегда на средине
Рокового земного пути:
От ничтожной причины — к причине,
А глядишь — заплутался в пустыне,
И своих же следов не найти.
Да, меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала.
И Виргилия нет за плечами —
Только есть одиночество — в раме
Говорящего правду стекла.
18-23 июля 1924 года, Париж
*****
Ищи меня
Ищи меня в сквозном весеннем свете.
Я весь — как взмах неощутимых крыл,
Я звук, я вздох, я зайчик на паркете,
Я легче зайчика: он — вот, он есть, я был.
Но, вечный друг, меж нами нет разлуки!
Услышь, я здесь. Касаются меня
Твои живые, трепетные руки,
Простертые в текучий пламень дня.
Помедли так. Закрой, как бы случайно,
Глаза. Еще одно усилье для меня —
И на концах дрожащих пальцев, тайно,
Быть может, вспыхну кисточкой огня.
1918 год
*****
Дождь
Я рад всему: что город вымок,
Что крыши, пыльные вчера,
Сегодня, ясным шелком лоснясь,
Свергают струи серебра.
Я рад, что страсть моя иссякла.
Смотрю с улыбкой из окна,
Как быстро ты проходишь мимо
По скользкой улице, одна.
Я рад, что дождь пошел сильнее
И что, в чужой подъезд зайдя,
Ты опрокинешь зонтик мокрый
И отряхнешься от дождя.
Я рад, что ты меня забыла,
Что, выйдя из того крыльца,
Ты на окно мое не взглянешь,
Не вскинешь на меня лица.
Я рад, что ты проходишь мимо,
Что ты мне все-таки видна,
Что так прекрасно и невинно
Проходит страстная весна.
7 апреля 1908 года, Москва
*****
Не верю в красоту земную
Не верю в красоту земную
И здешней правды не хочу.
И ту, которую целую,
Простому счастью не учу.
По нежной плоти человечьей
Мой нож проводит алый жгут:
Пусть мной целованные плечи
Опять крылами прорастут!
1922 год
И снова голос нежный
И снова голос нежный,
И снова тишина,
И гладь равнины снежной
За стеклами окна.
Часы стучат так мерно,
Так ровен плеск стихов.
И счастье снова верно,
И больше нет грехов.
Я бросил их: я дома, —
Не манит путь назад.
Здесь все душе знакомо…
Я нежно, грустно рад.
Мои неясны грезы,
Я только тихо нов…
Закат рассыпал розы
По савану снегов.
8 февраля 1905 года
*****
Вечер
Под ногами скользь и хруст.
Ветер дунул, снег пошел.
Боже мой, какая грусть!
Господи, какая боль!
Тяжек Твой подлунный мир,
Да и Ты немилосерд,
И к чему такая ширь,
Если есть на свете смерть?
И никто не объяснит,
Отчего на склоне лет
Хочется еще бродить,
Верить, коченеть и петь.
23 марта 1922 года
*****
Музыка
Всю ночь мела метель, но утро ясно.
Еще воскресная по телу бродит лень,
У Благовещенья на Бережках обедня
Еще не отошла. Я выхожу во двор.
Как мало всё: и домик, и дымок,
Завившийся над крышей! Сребро-розов
Морозный пар. Столпы его восходят
Из-за домов под самый купол неба,
Как будто крылья ангелов гигантских.
И маленьким таким вдруг оказался
Дородный мой сосед, Сергей Иваныч.
Он в полушубке, в валенках. Дрова
Вокруг него раскиданы по снегу.
Обеими руками, напрягаясь,
Тяжелый свой колун над головою
Заносит он, но — тук! тук! тук! — не громко
Звучат удары: небо, снег и холод
Звук поглощают… «С праздником, сосед».
— «А, здравствуйте!» Я тоже расставляю
Свои дрова. Он — тук! Я — тук! Но вскоре
Надоедает мне колоть, я выпрямляюсь
И говорю: «Постойте-ка минутку,
Как будто музыка?» Сергей Иваныч
Пеpeстaeт работать, голову слегка
Приподнимает, ничего не слышит,
Но слушает старательно… «Должно быть,
Вам показалось», — говорит он. «Что вы,
Да вы прислушайтесь. Так ясно слышно!»
Он слушает опять: «Ну, может быть —
Военного хоронят? Только что-то
Мне не слыхать». Но я не унимаюсь:
«Помилуйте, теперь совсем уж ясно.
И музыка идет как будто сверху.
Виолончель… и арфы, может быть…
Вот хорошо играют! Не стучите».
И бедный мой Сергей Иваныч снова
Пеpeстaeт колоть. Он ничего не слышит,
Но мне мешать не хочет и досады
Старается не выказать. Забавно:
Стоит он посреди двора, боясь нарушить
Неслышную симфонию. И жалко
Мне, наконец, становится его.
Я объявляю: «Кончилось!» Мы снова
За топоры беремся. Тук! Тук! Тук!.. А небо
Такое же высокое, и так же
В нем ангелы пернатые сияют.
15 июня 1920 года
*****
Время легкий бисер нижет
Время легкий бисер нижет:
Час за часом, день ко дню…
Не с тобой ли сын мой прижит?
Не тебя ли хороню?
Время жалоб не услышит!
Руки вскину к синеве, —
А уже рисунок вышит
На исколотой канве.
12 декабря 1907 года, Москва
*****
Так бывает почему-то
Так бывает почему-то:
Ночью, чуть забрезжат сны —
Сердце словно вдруг откуда-то
Упадает с вышины.
Ах! — и я в постели. Только
Сердце бьется невпопад.
В полутьме с ночного столика
Смутно смотрит циферблат.
Только ощущеньем кручи
Ты еще трепещешь вся —
Легкая моя, падучая,
Милая душа моя!
25 сентября 1920 года
*****
Сквозь уютное солнце апреля
Сквозь уютное солнце апреля —
Неуютный такой холодок.
И — смерчом по дорожке песок,
И — смолкает скворец-пустомеля.
Там над северным краем земли
Черно-серая вздутая туча.
Котелки поплотней нахлобуча,
Попроворней два франта пошли.
И под шум градобойного гула —
В сердце гордом, веселом и злом:
«Это молнии нашей излом,
Это наша весна допорхнула!»
21 апреля 1937 года, Париж
Встреча
В час утренний у Santa Margherita
Я повстречал ее. Она стояла
На мостике, спиной к перилам. Пальцы
На сером камне, точно лепестки,
Легко лежали. Сжатые колени
Под белым платьем проступали слабо…
Она ждала. Кого? В шестнадцать лет
Кто грезится прекрасной англичанке
В Венеции? Не знаю — и не должно
Мне знать того. Не для пустых догадок
Ту девушку припомнил я сегодня.
Она стояла, залитая солнцем,
Но мягкие поля Панамской шляпы
Касались плеч приподнятых — и тенью
Прохладною лицо покрыли. Синий
И чистый взор лился оттуда, словно
Те воды свежие, что пробегают
По каменному ложу горной речки,
Певучие и быстрые… Тогда-то
Увидел я тот взор невыразимый,
Который нам, поэтам, суждено
Увидеть раз и после помнить вечно.
На миг один является пред нами
Он на земле, божественно вселяясь
В случайные лазурные глаза.
Но плещут в нем те пламенные бури,
Но вьются в нем те голубые вихри,
Которые потом звучали мне
В сияньи солнца, в плеске черных гондол,
В летучей тени голубя и в красной
Струе вина.
И поздним вечером, когда я шел
К себе домой, о том же мне шептали
Певучие шаги венецианок,
И собственный мой шаг казался звонче,
Стремительней и легче. Ах, куда,
Куда в тот миг мое вспорхнуло сердце,
Когда тяжелый ключ с пружинным звоном
Я повернул в замке? И отчего,
Переступив порог сеней холодных,
Я в темноте у каменной цистерны
Стоял так долго? Ощупью взбираясь
По лестнице, влюбленностью назвал я
Свое волненье. Но теперь я знаю,
Что крепкого вина в тот день вкусил я —
И чувствовал еще в своих устах
Его минутный вкус. А вечный хмель
Пришел потом.
1918 год
*****
Слепая сердца мудрость! Что ты значишь?
Слепая сердца мудрость! Что ты значишь?
На что ты можешь дать ответ?
Сама томишься, пленница, и плачешь;
Тебе самой исхода нет.
Рождённая от опыта земного,
Бессильная пред злобой дня,
Сама себя ты уязвить готова,
Как скорпион в кольце огня.
1921 год
*****
Автомобиль
Бредём в молчании суровом.
Сырая ночь, пустая мгла,
И вдруг — с каким певучим зовом
Автомобиль из-за угла.
Он чёрным лаком отливает,
Сияя гранями стекла,
Он в сумрак ночи простирает
Два белых ангельских крыла.
И стали здания похожи
На праздничные стены зал,
И близко возле нас прохожий
Сквозь эти крылья пробежал.
А свет мелькнул и замаячил,
Колебля дождевую пыль…
Но слушай: мне являться начал
Другой, другой автомобиль…
Он пробегает в ясном свете,
Он пробегает белым днём,
И два крыла на нём, как эти,
Но крылья чёрные на нём.
И всё, что только попадает
Под чёрный сноп его лучей,
Невозвратимо исчезает
Из утлой памяти моей.
Я забываю, я теряю
Психею светлую мою,
Слепые руки простираю,
И ничего не узнаю:
Здесь мир стоял, простой и целый,
Но с той поры, как ездит тот,
В душе и в мире есть пробелы,
Как бы от пролитых кислот.
1921 год
*****
Зимой
День морозно-золотистый
Сети тонкие расставил,
А в дали, пурпурно-мглистой,
Кто-то медь ковал и плавил.
Кто-то золотом сусальным
Облепил кресты и крыши.
Тихий ветер дымам дальним
Приказал завиться выше…
К сизым кольцам взоры вскинем!
Мир печалью светлой болен…
Стынет в небе, ярко-синем,
Строй прозрачных колоколен.
4-7 декабря 1906 года, Москва
*****
Жизнь потаенно хороша
Когда б я долго жил на свете,
Должно быть, на исходе дней
Упали бы соблазнов сети
С несчастной совести моей.
Какая может быть досада,
И счастья разве хочешь сам,
Когда нездешняя прохлада
Уже бежит по волосам?
Глаз отдыхает, слух не слышит,
Жизнь потаенно хороша,
И небом невозбранно дышит
Почти свободная душа.
1921 год
*****
Горит звезда, дрожит эфир
Горит звезда, дрожит эфир,
Таится ночь в пролёты арок.
Как не любить весь этот мир,
Невероятный Твой подарок?
Ты дал мне пять неверных чувств,
Ты дал мне время и пространство,
Играет в мареве искусств
Моей души непостоянство.
И я творю из ничего
Твои моря, пустыни, горы,
Всю славу солнца Твоего,
Так ослепляющего взоры.
И разрушаю вдруг шутя
Всю эту пышную нелепость,
Как рушит малое дитя
Из карт построенную крепость.
1921 год
Поэту
Ты губы сжал и горько брови сдвинул,
А мне смешна печаль твоих красивых глаз.
Счастлив поэт, которого не минул
Банальный миг, воспетый столько раз!
Ты кличешь смерть — а мне смешно и нежно:
Как мил изменницей покинутый поэт!
Предчувствую написанный прилежно,
Мятежных слов исполненный сонет.
Пройдут года. Как сон, тебе приснится
Минувших горестей невозвратимый хмель.
Придет пора вздохнуть и умилиться:
Над чем рыдала детская свирель!
Люби стрелу блистательного лука.
Жестокой шалости, поэт, не прекословь!
Нам всем дается первая разлука,
Как первый лавр, как первая любовь.
Весна 1908 года, Гиреево
*****
Себе
Не жди, не уповай, не верь:
Всё то же будет, что теперь.
Глаза усталые смежи,
В стихах, пожалуй, ворожи,
Но помни, что придет пора —
И шею брей для топора.
1923 год
*****
Дактили
— 1 —
Был мой отец шестипалым. По ткани, натянутой туго,
Бруни его обучал мягкою кистью водить.
Там, где фиванские сфинксы друг другу в глаза загляделись,
В летнем пальтишке зимой пеpeбeгaл он Неву.
А на Литву возвратясь, веселый и нищий художник,
Много он там расписал польских и русских церквей.
— 2 —
Был мой отец шестипалым. Такими родятся счастливцы.
Там, где груши стоят подле зеленой межи,
Там, где Вилия в Неман лазурные воды уносит,
В бедной, бедной семье встретил он счастье свое.
В детстве я видел в комоде фату и туфельки мамы.
Мама! Молитва, любовь, верность и смерть — это ты!
— 3 —
Был мой отец шестипалым. Бывало, в»сороку-ворону»
Станем играть вечерком, сев на любимыйдиван.
Вот на отцовской руке старательно я загибаю
Пальцы один за другим — пять. А шестой — это я.
Шестеро было детей. И вправду: он тяжкой работой
Тех пятерых прокормил — только меня не успел.
— 4 —
Был мой отец шестипалым. Как маленький лишний мизинец
Прятать он ловко умел в левой зажатой руке,
Так и в душе навсегда затаил незаметно, подспудно
Память о прошлом своем, скорбь о святом ремесле.
Ставши купцом по нужде — никогда ни намеком, ни словом
Не поминал, не роптал. Только любил помолчать.
— 5 —
Был мой отец шестипалым. В сухой и красивой ладони
Сколько он красок и черт спрятал, зажал, затаил?
Мир созерцает художник — и судит, и дерзкою волей,
Демонской волей творца — свой созидает, иной.
Он же очи смежил, муштабель и кисти оставил,
Не созидал, не судил… Трудный и сладкий удел!
— 6 —
Был мой отец шестипалым. А сын? Нисмиренного сердца,
Ни многодетной семьи, ни шестипалой руки
Не унаследовал он. Как игрок на неверную карту,
Ставит на слово, на звук — душу свою и судьбу…
Ныне, в январскую ночь, во хмелю, шестипалым размером
И шестипалой строфой сын поминает отца.
1928 год
*****
Анюте
На спичечной коробке —
Смотри-ка — славный вид:
Кораблик трехмачтовый
Не двигаясь бежит.
Не разглядишь, а верно —
Команда есть на нем,
И в тесном трюме, в бочках, —
Изюм, корица, ром.
И есть на нем, конечно,
Отважный капитан,
Который видел много
Непостижимых стран.
И верно — есть матросик,
Что мастер песни петь
И любит ночью звездной
На небеса глядеть…
И я, в руке Господней,
Здесь, на Его земле, —
Точь-в-точь как тот матросик
На этом корабле.
Вот и сейчас, быть может,
В каюте кормовой
В окошечко глядит он
И видит — нас с тобой.
1918 год
*****
Рай
Вот, открыл я магазин игрушек:
Ленты, куклы, маски, мишура…
Я заморских плюшевых зверушек
Завожу в витрине с раннего утра.
И с утра толпятся у окошка
Старички, старушки, детвора-
Весело — и грустно мне немножко:
День за днем, сегодня — как вчера.
Заяц лапкой бьет по барабану,
Бойко пляшут мыши впятером.
Этот мир любить не перестану,
Хорошо мне в сумраке земном!
Хлопья снега вьются за витриной
В жгучем свете желтых фонарей…
Зимний вечер, длинный, длинный, длинный!
Милый отблеск вечности моей!
Ночь настанет — магазин закрою,
Сосчитаю деньги (я ведь не спешу!)
И, накрыв игрушки легкой кисеею,
Все огни спокойно погашу.
Долгий день припомнив, спать улягусь мирно,
В колпаке заветном, — а в последнем сне
Сквозь узорный полог, в высоте сапфирной
Ангел златокрылый пусть приснится мне.
Декабрь 1913 года
*****
Обезьяна
Была жара. Леса горели. Нудно
Тянулось время. На соседней даче
Кричал петух. Я вышел за калитку.
Там, прислонясь к забору, на скамейке
Дремал бродячий серб, худой и черный.
Серебряный тяжелый крест висел
На груди полуголой. Капли пота
По ней катились. Выше, на заборе,
Сидела обезьяна в красной юбке
И пыльные листы сирени
Жевала жадно. Кожаный ошейник,
Оттянутый назад тяжелой цепью,
Давил ей горло. Серб, меня заслышав,
Очнулся, вытер пот и попросил, чтоб дал я
Воды ему. Но чуть ее пригубив —
Не холодна ли, — блюдце на скамейку
Поставил он, и тотчас обезьяна,
Макая пальцы в воду, ухватила
Двумя руками блюдце.
Она пила, на четвереньках стоя,
Локтями опираясь на скамью.
Досок почти касался подбородок,
Над теменем лысеющим спина
Высоко выгибалась. Так, должно быть,
Стоял когда-то Дарий, припадая
К дорожной луже, в день, когда бежал он
Пред мощною фалангой Александра.
Всю воду выпив, обезьяна блюдце
Долой смахнула со скамьи, привстала
И — этот миг забуду ли когда? —
Мне черную, мозолистую руку,
Еще прохладную от влаги, протянула…
Я руки жал красавицам, поэтам,
Вождям народа — ни одна рука
Такого благородства очертаний
Не заключала! Ни одна рука
Моей руки так братски не коснулась!
И видит Бог, никто в мои глаза
Не заглянул так мудро и глубоко,
Воистину — до дна души моей.
Глубокой древности сладчайшие преданья
Тот нищий зверь мне в сердце оживил,
И в этот миг мне жизнь явилась полной,
И мнилось — хор светил и волн морских,
Ветров и сфер мне музыкой органной
Ворвался в уши, загремел, как прежде,
В иные, незапамятные дни.
И серб ушел, постукивая в бубен.
Присев ему на левое плечо,
Покачивалась мерно обезьяна,
Как на слоне индийский магараджа.
Огромное малиновое солнце,
Лишенное лучей,
В опаловом дыму висело. Изливался
Безгромный зной на чахлую пшеницу.
В тот день была объявлена война.
1919 год
****************************************************
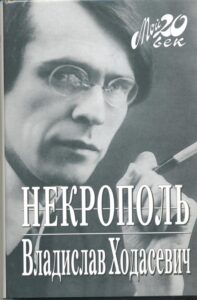
khodasevich_nekropol_1996__ocr — 466 стр. в pdf
Поклон! Люблю.

*** *** ***
ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ «НЕКРОПОЛЬ»
«Перед тем как послать в редакцию «Современных Записок» свои воспоминания о Валерии Брюсове, я прочёл их Горькому. Когда я кончил читать, он сказал, помолчав немного:
— Жёстко вы написали, но — превосходно. Когда я помру, напишите, пожалуйста, обо мне.
— Хорошо, Алексей Максимович.
— Не забудете?
— Не забуду».
Этим абзацем заканчивается «Некрополь» (Париж, 1936) — книга воспоминаний известнейшего в своё время литературного критика и поэта Владислава Ходасевича. Всего в книге 10 очерков, в которых Ходасевич рассказывает об известных персонах литературного и окололитературного мира начала 20 века, с которыми он общался, приятельствовал и даже жил под одной крышей: о Нине Петровской, о Валерии Брюсове, об Андрее Белом, о Самуиле Киссине (муж родной сестры Брюсова), О Гумилёве и Блоке (в одном очерке), о Гершензоне (известном историке), о Сологубе, Есенине и Горьком. Это значительный документ — ценное свидетельство об эпохе начала 20 века. Мы узнаём многое, между прочим, о самом авторе, — вчитываясь в его воспоминания.
Ходасевич отлично владеет русским языком, он интутивно чувствует слово, меток в изображении портрета того или иного человека, изумляет, настолько он точен, когда раскрывает характер творчества литераторов-знакомцев. Его очерки могут показаться безжалостно-жестокими (про него говорили, что у него вместо крови муравьиный яд), с чем я категорически не согласен. Он просто старался быть объективным. В этом он видел достоинство писателя и публициста.
Ходасевич честен, очень любил русский язык и русскую литературу и, естественно, не выносил разрушения живого языка, на котором говорили и писали Державин и Пушкин. Впрочем, надо подчеркнуть, он не настолько едок и ядовит, каким был Иван Бунин. Его мягкость видна в оценке Гумилёва, Блока, Белого и в особенности Есенина (в общем, к литераторам, получившим убийственные характеристики Ивана Алексеевича, — надо отметить, Ходасевич состоял в дружеских отношениях с Буниным).
На одной из встреч с читателями Дмитрий Быков (объявлен нынешними властями «иноагентом»), со свойственной ему наивностью в некоторых вопросах, сказал, что Ходасевич, поверни русло истории иначе, мог бы встать во главе советского правительства после смерти Ленина. Но получилось так, как получилось: НЭП была свёрнута, Джугашвили узурпировал власть, старая ленинская «гвардия» была истреблена… Возвращение в СССР стало невозможным для Ходасевича…
На самом деле Ходасевич не вернулся бы в поруганную большевиками Россию даже если бы коллективизация не пришла на смену НЭПу и Сталин занимал бы в руководстве изнасилованной страной незначительное положение. Из «Некрополя» и других текстов писателя видно, как быстро образовался после октябрьского переворота слой новых господ — «красных аристократов» (если позволительно так назвать откровенных бандитов, захвативших власть в
стране в сложный период). Ничего общего с ними у Ходасевича не было и вряд ли он смог бы терпеть рядом с собой присутствие жуликов, лжецов и насильников. Так что здесь Быков ошибается: невозможно не заляпаться в грязи, переходя вброд через мутный поток. А Ходасевич не из тех, кто способен к притворству. Оды советской власти он не собирался петь.
Читатель не раз рассмеётся в голос, заново знакомясь с давно известными, казалось бы, личностями. Особенно с добродушным юмором описаны конфузы, которые случались с Горьким. И, конечно, характеристики Ходасевича — это ключи для понимания всех этих героев «Некрополя». Многое становится понятным после этих очерков, что ранее вызывало, как минимум, недоумение.
#Владислав_Ходасевич
#Некрополь
#литературные_воспоминания
#Край_ночи

//https://vk.com/wall-218387272_2197
********************************************************************************************************
Молитвы русских поэтов. XX-XXI. Антология — Владислав Ходасевич
Владислав Ходасевич
Ходасевич Владислав Фелицианович (1886–1939) – поэт, прозаик, литературный критик, переводчик, мемуарист. По отцу потомственный дворянин польского происхождения. Закончил 3‑ю московскую гимназию. Первую книгу стихов издал в 1907 году, будучи студентом Московского университета. Много позже Г. Адамович отметит, что под его стихами не надо ставить подписи, – настолько они оригинальны. И это действительно так. Ходасевич – один из самых «узнаваемых» поэтов. Гораздо труднее объяснить причину этой чисто интонационной «узнаваемости» его поэтического «голоса». Его стихи даже не читаются, а слышатся. Впрочем, то же самое можно сказать о любом другом подлинном поэте. Сама подлинность поэзии проверяется «на слух». Ходасевич в этом отношении лишь наиболее характерен. Его стихи интонированы, в них главное – не рифма, не ритм, не мелодика, а интонация.
Как до, так и после 1917 года, оказавшись одной из составных частей Русского зарубежья, он всегда оставался не только поэтом, но и оригинальным критиком. Помимо «Статей о русской поэзии», вышедших в 1922 году в Петрограде, и предсмертной мемуарной книги «Некрополь», вышедшей в 1939 году в Брюсселе (1939), в журналах и газетах появилось более четырехсот его критических статей, обзоров, рецензий, ставших своеобразным хронографом литературной и общественной жизни с 1909 по 1939 год.
Последний гимн
Живу последние мгновенья.
Безмирный сон, последний сон.
Пою предсмертные моленья,
В душе растет победный звон.
Дрожа и плача, торжествуя,
Дошел до дальнего конца…
И умер я, и вновь живу я…
Прошел пустыни. Жду венца.
Развею стяг, мне данный Богом
Еще тогда, в неясный час,
Когда по облачным дорогам
Я шел и слышал вещий глас.
Я белый стяг окрасил кровью
И вот – принес его на Суд.
Крещенный злобой и любовью,
Я ввысь иду. Утес мой крут.
Взойду на кручи. Подо мною –
Клубится пена облаков.
Я над безвольностью земною
Восстану, просветлен и нов.
Тогда свершится Суд Последний…
На стяг прольются вновь лучи…
Вспою мой гимн еще победней,
Заблещут ангелов мечи.
И Он сойдет, и скажет слово,
И приобщит к Себе меня.
И всепрощения благого
Прольется песнь, светло звеня.
Мои скитанья и томленья
Потонут в низинах земли.
Свершится чудо Воскресенья…
Мой светлый дух! Живи! Внемли!
28 ноября 1904
Поздно
Я задумался. Очнулся.
Колокольный звон!
В церковь, к свечкам, к темным ликам
Грустно манит он.
Поздно, поздно. В церкви пусто.
То последний звон.
Сердцу хочется больного,
Сердцу внятен стон.
Слишком поздно. Свечи гаснут.
Кто всегда – один,
Тот забыл, что в церкви – радость,
Он – как блудный сын.
Я хочу назад вернуться,
На колени пасть!
Боже, Боже! Дом Твой кроток, –
Надо мною – власть!
Я в тюрьме своих исканий.
Призраки плывут,
И грозят, и манят, манят,
Паутину ткут!
Слишком поздно. В темной бездне
Я ослеп и сгнил…
Будет стыдно выйти к свету –
И не хватит сил.
5 декабря 1904
Отшельник
Горьки думы о земном,
О потерянном Великом.
Робко шепчут об ином
Три свечи пред темным ликом.
Смутно плачет о больном
Безотрадный вой метели.
Навсегда забыться сном
В тишине безмолвных келий.
За решетчатым окном –
Занесенный снегом ельник.
О спасении земном
Помолюсь и я, отшельник.
29 апреля 1905
Лидино
Молитва
Все былые страсти, все тревоги
Навсегда забудь и затаи…
Вам молюсь я, маленькие боги,
Добрые хранители мои.
Скромные примите приношенья:
Ломтик сыра, крошки со стола…
Больше нет ни страха, ни волненья:
Счастье входит в сердце, как игла.
1913
Моисей
Спасая свой народ от смерти неминучей,
В скалу жезлом ударил Моисей –
И жаждущий склонился иудей
К струе студеной и певучей.
Велик пророк! Властительной руки
Он не простер над далью синеватой,
Да не потек послушный соглядатай
Исследовать горячие пески.
Он не молил небес о туче грозовой,
И родников он не искал в пустыне,
Но силой дерзости, сей властью роковой,
Иссек струю из каменной твердыни…
Не так же ль и поэт мечтой самодержавной
Преобразует мир перед толпой –
Но в должный миг ревнивым Еговой
Карается за подвиг богоравный?
Волшебный вождь, безсильный и венчанный, –
Ведя людей, он знает наперед,
Что сам он никогда не добредет
До рубежа страны обетованной.
1909 – 30 мая 1915
Слезы Рахили
Мир земле вечерней и грешной!
Блещут лужи, перила, стекла.
Под дождем я иду неспешно,
Мокры плечи, и шляпа промокла.
Нынче все мы стали бездомны,
Словно вечно бродягами были,
И поет нам дождь неуемный
Про древние слезы Рахили.
Пусть потомки с гордой любовью
Про дедов легенды сложат –
В нашем сердце грехом и кровью
Каждый день отмечен и прожит.
Горе нам, что по воле Божьей
В страшный час сей мир посетили!
На щеках у старухи прохожей –
Горючие слезы Рахили.
Не приму ни чести, ни славы,
Если вот, на прошлой неделе,
Ей прислали клочок кровавый
Заскорузлой солдатской шинели.
Ах, под нашей тяжелой ношей
Сколько б песен мы ни сложили –
Лишь один есть припев хороший:
Неутешные слезы Рахили!
5–30 октября 1916
* * *
Судьей меня Господь не ставил
И не сужу я никого.
Но сердце мне Он переплавил
В горниле гнева Своего.
(1917)
Листик
Прохожий мальчик положил
Мне листик на окно.
Как много прожилок и жил,
Как сложно сплетено!
Как семя мучится в земле,
Пока не даст росток,
Как трудно движется в стебле
Тягучий, клейкий сок.
Не так ли должен я поднять
Весь груз страстей, тревог,
И слез, и счастья – чтоб узнать
Простое слово – Бог?
6 июля 1919
Путем зерна
Проходит сеятель по ровным бороздам.
Отец его и дед по тем же шли путям.
Сверкает золотом в его руке зерно,
Но в землю черную оно упасть должно.
И там, где червь слепой прокладывает ход,
Оно в заветный срок умрет и прорастет.
Так и душа моя идет путем зерна:
Сойдя во мрак, умрет – и оживет она.
И ты, моя страна, и ты, ее народ,
Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, –
Затем, что мудрость нам единая дана:
Всему живущему идти путем зерна.
23 декабря 1917
Анюте
На спичечной коробке –
Смотри-ка – славный вид:
Кораблик трехмачтовый,
Не двигаясь, бежит.
Не разглядишь, а верно –
Команда есть на нем,
И в тесном трюме, в бочках,
Изюм, корица, ром.
И есть на нем, конечно,
Отважный капитан,
Который видел много
Непостижимых стран.
И верно – есть матросик,
Что мастер песни петь
И любит ночью звездной
На небеса глядеть…
И я, в руке Господней,
Здесь, на Его земле, –
Точь-в-точь как тот матросик
На этом корабле.
Вот и сейчас, быть может,
В каюте кормовой
В окошечко глядит Он
И видит – нас с тобой.
25 января 1918
* * *
У Благовещенья на Бережках обедня
Еще не отошла. Я выхожу во двор.
Как мало все: и домик, и дымок,
Завившийся над крышей! Сребророзов
Морозный пар. Столпы его восходят
Из-за домов под самый купол неба,
Как будто крылья ангелов гигантских.
И маленьким таким вдруг оказался
Дородный мой сосед, Сергей Иваныч.
Он в полушубке, в валенках. Дрова
Вокруг него раскиданы по снегу,
Обеими руками, напрягаясь,
Тяжелый свой колун над головою
Заносит он, но – тук! тук! тук! – не громко
Звучат удары: небо, снег и холод
Звук поглощают… «С праздником, сосед». –
«А, здравствуйте!» Я тоже расставляю
Свои дрова. Он – тук! Я – тук! Но вскоре
Надоедает мне колоть, я выпрямляюсь
И говорю: «Постойте-ка минутку,
Как будто музыка?» Сергей Иваныч
Перестает работать, голову слегка
Приподнимает, ничего не слышит,
Но слушает старательно… «Должно быть,
Вам показалось», – говорит он. «Что вы,
Да вы прислушайтесь. Так ясно слышно!»
Он слушает опять: «Ну, может быть –
Военного хоронят? Только что-то
Мне не слыхать». Но я не унимаюсь:
«Помилуйте, теперь совсем уж ясно.
И музыка идет как будто сверху.
Виолончель… и арфы, может быть…
Вот хорошо играют! Не стучите».
И бедный мой Сергей Иваныч снова
Перестает колоть. Он ничего не слышит,
Но мне мешать не хочет и досады
Старается не выказать. Забавно:
Стоит он посреди двора, боясь нарушить
Неслышную симфонию. И жалко
Мне наконец становится его.
Я объявляю: «Кончилось». Мы снова
За топоры беремся. Тук! Тук! Тук!.. А небо
Такое же высокое, и так же
В нем ангелы пернатые сияют.
1920
Вечер
Под ногами скользь и хруст.
Ветер дунул, снег пошел.
Боже мой, какая грусть!
Господи! какая боль!
Тяжек Твой подлунный мир,
Да и Ты немилосерд.
И к чему такая ширь,
Если есть на свете смерть?
И никто не объяснит,
Отчего на склоне лет
Хочется еще бродить,
Верить, коченеть и петь.
23 марта 1922
* * *
В последний раз зову Тебя: явись
На пиршество ночного вдохновенья.
В последний раз: восхить меня в ту высь,
Откуда открывается паденье.
В последний раз! Нет в жизни ничего
Святее и ужаснее прощанья.
Оно есть агнец сердца моего,
Влекомый на закланье.
В нем прошлое возлюблено опять
С уже нечеловеческою силой.
Так пред расстрелом сын объемлет мать
Над общей их могилой.
13 февраля 1934
Париж
В.Шубинский 15 цитат из писем Ходасевича 27 ЯНВАРЯ 2020 (окончание)
Начало см. https://zotych7.livejournal.com/1714960.html
9. О павлинах, орлах и бедной девочке
«Теперь я — Медведь, который ходит сам по себе. Я тебя звал на дорожку легкую, светлую — вместе. Ты не пошла (Давно уж это было). Теперь хожу я один, и нет у меня никого, ради кого стоит ходить по легким дорожкам. Вот и пошел теперь самыми трудными, и уж никто и ничто, даже ты, меня не вернет назад.
„Офелия гибла и пела“ — кто не гибнет, тот не поет. Прямо скажу: я пою и гибну. И ты, и никто уже не вернет меня. Я зову с собой — погибать. Бедную девочку Берберову я не погублю, потому что мне жаль ее. Я только обещал ей показать дорожку, на которой гибнут. Но, доведя до дорожки, дам ей бутерброд на обратный путь, а по дорожке дальше пойду один. Она-то просится на дорожку, этого им всем хочется, человечкам. А потом не выдерживают. И еще я ей сказал: „Ты не для орла, ты — для павлина“. Все вы, деточки, для павлинов. Ну, конечно, и я не орел, а все-таки что-то вроде: когти кривые».Из письма Анне Ходасевич. 3 февраля 1922 года

В январе 1922 года, когда Анна Ивановна была в санатории, у Ходасевича начался роман с молодой писательницей Ниной Берберовой. Первая половина 1922 года проходит в атмосфере мучительного любовного треугольника. 7 мая Ходасевич и Берберова уезжают в Москву хлопотать о выезде за границу. В письме, отправленном из Москвы, Ходасевич предлагает Анне Ивановне расстаться, сохранив дружеские отношения. После этого они обмениваются еще несколькими письмами, пытаясь разобраться в отношениях. 22 июня Ходасевич и Берберова уезжают в Берлин по временной командировке Наркомпроса. В Россию они не вернутся. Переписка поэта с бывшей женой продолжалась еще несколько лет.
10. О кишках последнего коммуниста
«…Чего и ждать от людей, желающих сделать политическую и социальную революцию — без революции духа. Я некогда ждал — по глупости. Ныне эти мещане дождутся того, что разнуздают последнего духа мещанства: духа земли: землероба. Этому и коммунист покажется слишком идеалистом, и он удавит последнего попа на кишках последнего коммуниста . Впрочем, может быть и другое: Зиновьев будет висеть на моих, скажем, кишках, Троцкий на Ваших, а патриарх Тихон — на кишках профессора Павлова. (Я со смущением вижу, что затесался в слишком хорошую компанию: тут-то и сбудется поговорка, что на людях и смерть красна.)».
Из письма Максиму Горькому. 28 июня 1923 года

В 1922–1924 годах Ходасевич и Берберова жили в Германии, Чехословакии, Италии, Франции, потом снова в Италии. Работа Ходасевича и его перемещения в этот период во многом связаны с журналом «Беседа» — их с Горьким совместным проектом. Несмотря на разные характеры и культурный бэкграунд, писатели стали очень близки. Нина Берберова вспоминала: «Горький глубоко был привязан к нему, любил его как поэта и нуждался в нем как в друге». Политические взгляды обоих писателей тоже совпадали: оба находились в оппозиции к большевикам «изнутри». Но к Горькому власти были гораздо ближе, чем к Ходасевичу, и расхождение было неизбежно…
Журнал «Беседа» предполагалось издавать в Германии, без цензуры, с участием советских писателей и эмигрантов, а распространять в России. Но ничего не получилось: как эмигрантские, так и советские писатели опасались давать свои тексты журналу с нечетким статусом, а советская цензура вскоре перестала допускать «Беседу» в страну. Для Ходасевича и Берберовой это стало одним из толчков к переходу на положение политических эмигрантов.
11. О доме, который стоит повидать
«Кстати: в Берлине, Праге, Мариенбаде и здесь видел я много домов, в которых родились или жили многие великие люди: Гете, Байрон и т. д. Хотел бы я также повидать дом, в котором родился Герцен. Как по-Вашему: стоит? Спрашиваю не для ближайшего времени, а вообще».
Из письма Владимиру Лидину. 18 марта 1924 года
Это письмо, отправленное из Венеции,зашифровано: письма читались цензурой. На самом деле Ходасевич советуется с писателем Владимиром Лидиным, стоит ли ему возвращаться в СССР. В «доме, где родился Герцен» в Москве находился Союз писателей . Окончательно вопрос о возвращении Ходасевича в СССР решился после публикации его очерка «Господин Родов» — памфлета против одного из руководителей Российской ассоциации пролетарских писателей. В марте 1925 года советское посольство в Италии отказалось продлить Ходасевичу и Берберовой заграничные паспорта. К тому времени у них уже были выправлены нансеновские паспорта (то есть особые паспорта для лиц без гражданства, введенные в 1922 году по инициативе полярного исследователя Фритьофа Нансена, комиссара Лиги Наций по делам беженцев). Из Италии Ходасевич и Берберова отправились в Париж, а в октябре Ходасевич официально объявил о своем нежелании возвращаться в СССР. К началу следующего года Ходасевич окончательно превращается в персону нон грата: это махровый белоэмигрант, постоянный автор антисоветских газет и человек, позитивное упоминание о котором в СССР и открытая переписка с которым невозможны. Письма Анне Ивановне Ходасевич подписывает «В. Медведев», а о ее «бывшем муже» замечает: «Это, извините за откровенность, тип отпетый. Если что нужно, пишите мне». Но вскоре и эта переписка заглохла.
12. О работе в газетах
«Чтобы писать, писателю нужно быть сытым (хотя бы). Журнальная работа и впроголодь не кормит. Писатели вынуждены идти в газеты. Из всех писателей я — самый голодный, ибо не получаю помощи ниоткуда: ни от сербов, ни от чехов, ни от Розенталя , ни от большевиков, ни от французов. И не устраиваю концертов, сборов и проч. (Не только не получаю, но имею официальное письменное сообщение о том, что чешской субсидии мне не дали ввиду доноса некоего „писателя“ о том, что я слишком много зарабатываю в „Возрождении“.)
Так вот, чтобы не голодать, я должен писать в газете всех больше».Из письма Марку Вишняку. 8 декабря 1927 года

Как и большинство эмигрантов, в Париже Ходасевич и Берберова живут очень бедно. Спасением становится регулярное сотрудничество (с 1927 года) в правоконсервативной газете «Возрождение». Ходасевич еженедельно пишет подвал, где под своим именем публикует заметки о современной литературе, воспоминания о литературной жизни 1900–10-х годов, тексты о Пушкине и его эпохе, а также вместе с Берберовой под псевдонимом Гулливер ведет обзоры советских журналов. Параллельно он остается постоянным автором журнала «Современные записки», издававшегося членами партии эсеров: Вадимом Рудневым, Ильей Фондаминским и Марком Вишняком.
13. О стремительном швырянии людьми
«Какое право я имею предписывать тебе то или иное поведение? Или его контролировать? Разве хоть раз попрекнул я тебя, когда сама ты рассказывала мне о своих, скажем, романах? <…> …Меня огорчает твое безумное легковерие, твое увлечение людьми, того не стоящими (обоего пола, вне всяких любовей!), и такое же твое стремительное швыряние людьми. Это было в тебе всегда, я всегда это тебе говорил, а сейчас, очутившись одна, ты просто до экстаза какого-то, то взлетая, то ныряя, купаешься в людской гуще. Это, на мой взгляд, должно тебя разменивать — дай Бог, чтобы я ошибся. Это, и только это, я ставлю тебе в упрек».
Из письма Нине Берберовой. Весна 1933 года
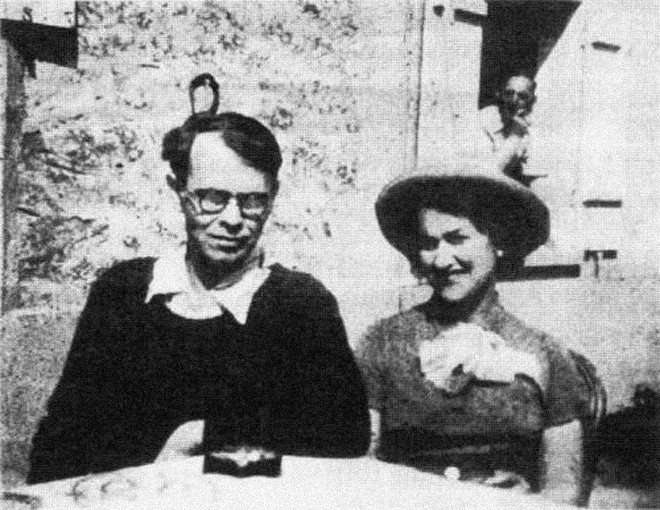
В 1929 году Ходасевич почти перестает писать стихи. Написанная им биография Державина имеет успех, но автобиографическую книгу «Младенчество» он так и не написал, а также отказывается от мысли написать биографию Пушкина, которая стала бы итогом многолетних занятий пушкинистикой. Творческий кризис, разочарование в эмигрантской литературной жизни, увязание в газетной рутине ведут к депрессии. Свободное время Ходасевич все больше проводит за игрой в карты или на диване в своей квартире в парижском предместье Бийянкур. В этот момент Берберова решает уйти. 26 апреля 1932 года она уезжает из Бийянкура, сварив борщ на три дня и перештопав все носки (как сама она описывает в своих мемуарах «Курсив мой»). Вскоре Ходасевич женился на Ольге Борисовне Марголиной, двоюродной сестре писателя Марка Алданова. С Ниной Берберовой он продолжал близко дружить.
14. О предельном разочаровании в эмиграции
«Это ты, милый мой, уезжаешь не чихнув, — а я-то бы с тобой простился. Однако ставить вопросы в этой плоскости весьма преждевременно. Действительно, своего предельного разочарования в эмиграции (в ее „духовных вождях“, за ничтожными исключениями) я уже не скрываю; действительно, о предстоящем отъезде Куприна я знал недели за три. Из этого „представители элиты“ вывели мой скорый отъезд. Увы, никакой реальной почвы под этой болтовней не имеется. Никаких решительных шагов я не делал — не знаю даже, в чем они должны заключаться. Главное же — не знаю, как отнеслись бы к этим шагам в Москве (хотя уверен „в душе“, что если примут во внимание многие важные обстоятельства, то должны отнестись положительно). Впрочем, тихохонько, как Куприн (правда, впавший в детство), я бы не поехал, а непременно, и крепко, и много нахлопал бы дверями, так чтобы ты услышала».
Из письма Нине Берберовой. 21 июня 1937 года
Это письмо вызывает оторопь: Ходасевич размышлял о возвращении в СССР в разгар Большого террора и несмотря на многолетнюю борьбу с «возвращенчеством», которую он вел на страницах «Возрождения» и других изданий. Разочаровавшийся в эмиграции поэт заметил, что имена многих одиозных критиков (Авербаха, Гронского и пр.) исчезли из советской печати (об их участи он, конечно, не догадывался). Произвело на Ходасевича впечатление и то, как торжественно и разнообразно отметили в СССР столетие гибели Пушкина. Вскоре, впрочем, эти настроения прошли.
15. О роковых минутах и высоких зрелищах
«Ну, душенька, будем надеяться, что мы с тобой переволновались понапрасну: кажется, всеблагие хотят нас избавить от присутствия на их очередной пирушке. Это очень мило с их стороны. Не люблю роковых минут и высоких зрелищ».
Из письма Нине Берберовой. 21 сентября 1938 года

Это письмо с цитатой из стихотворения Тютчева «Цицерон» (1830) написано при известии о Мюнхенском соглашении . Увы, мы знаем, что оно не предотвратило, а, возможно, приблизило Вторую мировую войну. Ходасевич не успел узнать о ней: 14 июня 1939 года он скончался от рака печени. Ольга Марголина-Ходасевич погибла в нацистском концлагере.
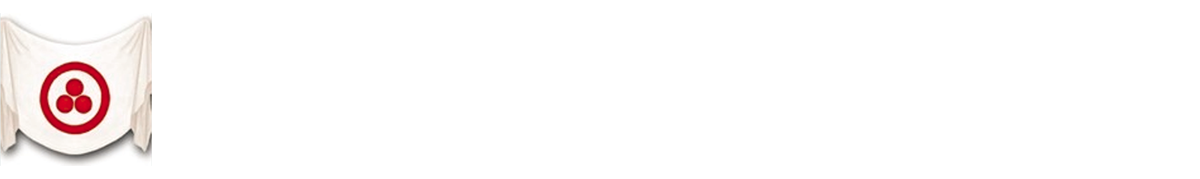
Все стихи Владислава Ходасевича
Читайте все стихи русского поэта Владислава Ходасевича на одной странице:
https://rupoem.ru/xodasevich/all.aspx
***
https://www.culture.ru/literature/poems/author-vladislav-khodasevich
***
https://rustih.ru/vladislav-xodasevich/
***
Лучшие стихи Владислава Ходасевича : https://dzen.ru/a/YweCrimvGVy1CIy4:
«Люблю людей, люблю природу»
Люблю людей, люблю природу,
Но не люблю ходить гулять,
И твердо знаю, что народу
Моих творений не понять.
Довольный малым, созерцаю
То, что дает нещедрый рок:
Вяз, прислонившийся к сараю,
Покрытый лесом бугорок…
Ни грубой славы, ни гонений
От современников не жду,
Но сам стригу кусты сирени
Вокруг террасы и в саду.
15-16 июня 1921 года